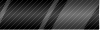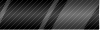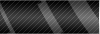Наш бедный гламур честнее, чем гламур для богатых. Только художники пока не научились с ним работать Наш бедный гламур честнее, чем гламур для богатых. Только художники пока не научились с ним работать
Тему гламура в отечественной культуре и политике за последние лет пять не обсуждал только ленивый. Существует мнение, что гламур в том или ином виде составляет культурное лицо российской нефтяной экономики. Тем неожиданнее мне было столкнуться с мнением моего берлинского коллеги, который сказал: «С чего вы взяли, что у вас в России есть гламур? Гламур — это претензия на большой стиль. Пусть иногда он и граничит с китчем, но он отдает себе в этом отчет. Это что-то элегантно-ироничное. Начиная от Марлен Дитрих и Греты Гарбо до теперешней голливудско-MTV-ишной смеси шика и богемной затрепанности. У вас же гламур выражается в постноворусской роскоши или в истеричном потреблении — в компенсации того, что когда-то недобрали».
Тогда я ему ответила, что социальным явлением гламур становится не тогда, когда имиджмейкеры и стилисты формируют икону шика, а когда эту икону воспроизводят массы. В этот момент она распадается на желанные «частичные объекты», в психоаналитическом смысле. Иначе говоря, гламур — это не только Мерилин Монро, Пэрис Хилтон, Ксения Собчак и пр., но и тысячи девушек, которые изо всех сил тщательно конструируют себя по медиаизображениям. Это, соответственно, и огромный ресурс некачественного кустарного производства «роскошных» товаров по низкой цене.
 И вот здесь возникает почти онтологический (и уж точно политический) разрыв между гламуром самих героев массмедиа, финансовой элиты, между гламуром «богатых» и гламуром просто потребителей, гламуром «бедных». Для первых «гламур» — отработка статуса, форма праздности, обрамляющая славу и успех. Для вторых — это тяжелая работа, строгая дисциплина: стоит немного отступить от нее, недобрать, недокупить, недолакировать — и впереди ожидает неуспех, бедность и энтропия. Иначе говоря, глянец в этом случае работает как универсальная компенсация нереализованности, которая как будто способна восполнить все одновременно — недополученное образование, недолеченные болезни, отсутствие комфортных условий жизни, невозможность участия в политике и даже, как это ни парадоксально, недостаток денег. И вот здесь возникает почти онтологический (и уж точно политический) разрыв между гламуром самих героев массмедиа, финансовой элиты, между гламуром «богатых» и гламуром просто потребителей, гламуром «бедных». Для первых «гламур» — отработка статуса, форма праздности, обрамляющая славу и успех. Для вторых — это тяжелая работа, строгая дисциплина: стоит немного отступить от нее, недобрать, недокупить, недолакировать — и впереди ожидает неуспех, бедность и энтропия. Иначе говоря, глянец в этом случае работает как универсальная компенсация нереализованности, которая как будто способна восполнить все одновременно — недополученное образование, недолеченные болезни, отсутствие комфортных условий жизни, невозможность участия в политике и даже, как это ни парадоксально, недостаток денег.  Интересно, что гламур как стиль родом из американской культуры, в которой богатство, деньги и успех (а соответственно и их манифестации) часто равнозначны достижениям культуры и интеллекта. Российский гламур воспроизводит как раз культурную парадигму Америки. Европейский массмедийный стандарт конца миллениума несколько иной: он состоит из комбинации субкультур, самоорганизованных гражданских сообществ и наследия высокой буржуазной культуры. Все они весьма стойко защищаются от прямых, спектакулярных проявлений «гламура». К американской и русской поп-культуре и к медийным демонстрациям шика различные слои европейского общества относятся снисходительно, отнюдь не считая, например, собственные зоны изысканного дизайна, современного искусства и минималистичного hi-tech «гламурными». Интересно, что гламур как стиль родом из американской культуры, в которой богатство, деньги и успех (а соответственно и их манифестации) часто равнозначны достижениям культуры и интеллекта. Российский гламур воспроизводит как раз культурную парадигму Америки. Европейский массмедийный стандарт конца миллениума несколько иной: он состоит из комбинации субкультур, самоорганизованных гражданских сообществ и наследия высокой буржуазной культуры. Все они весьма стойко защищаются от прямых, спектакулярных проявлений «гламура». К американской и русской поп-культуре и к медийным демонстрациям шика различные слои европейского общества относятся снисходительно, отнюдь не считая, например, собственные зоны изысканного дизайна, современного искусства и минималистичного hi-tech «гламурными».
С появлением в России все большего количества выставочных пространств современного искусства и у нас заговорили о том, что мода на глянец постепенно сходит на нет. Меньше кричащей безвкусицы, больше информированности и стиля, больше «европейского». Однако на самом деле речь идет часто лишь об эволюционном облагораживании гламура «для богатых». То же самое можно сказать и о якобы негламурной скромности дизайнерской Европы. Ведь в отличие от шоу-бизнеса дизайну и современному искусству нет нужды заигрывать с массами, им не нужно быть напрямую гламурными. Они зарабатывают свой символический и финансовый капитал в зоне избранных. Их скромность — ложная, а суть остается той же, что и в случае глянца. А именно: придумать такой трюк, который все неценное одним махом сделает ценным.

В этом смысле гламур «для бедных» сохраняет стратегический ход гламура обнаженным, правдивым. Более того, именно гламур «для бедных» в своем наивном тщеславии и даже некотором бескультурии позволяет ему избегать буржуазности.
Через неплотный лак гламура «для бедных» просвечивают жалкие остатки все еще существующего бывшего советского гражданина, не сумевшего стать буржуа, которому на сегодня только и оставили из всех прав что право потреблять, но который пока не догадывается, что он этого не желает. Гражданин, подвергшийся энтропийному разложению — вот что выпирает из-под глянца «для бедных». А это значит, что гламур является прямым симптомом того, что под его покрытием происходит тихое тление трупа общества, его регресс от политического к чистой физиологии и коллапс в ней. Российский «дикий капитализм» возвращает человека к «голой жизни», к энтропии органического. Все, что было когда-то социальным полем, становится распавшейся, неструктурированной, неполитизированной субстанцией.
Распад политического пространства оставляет от человека одну дегуманизированную физиологию «органического». На капиталистической ярмарке ей не остается ничего, кроме как облачиться в дешевый глянцевый наряд и изображать праздник.  Российские художники — Олег Кулик, Влад Мамышев-Монро, АЕС — достаточно ярко отразили в своих работах природу отечественного (американизированного по сути) гламура. Однако им пока не удалось выйти за границы простой репрезентации гламурного интерфейса. Обнажить подноготную гламура (его бессознательное) наиболее откровенно удалось американской художнице Синди Шерман, особенно в ее фотосериях рубежа 80— 90-х (например, в Civil War). Эти фотографии весьма гламурны сами по себе, но они при этом являются и приговором гламуру. У Шерман энтропийный распад, монструозные маски и глянцевые «частичные объекты» оказываются рядом друг с другом, свидетельствуя о том, что образы «шикарной» красоты скрывают за собой нечто ужасное. Российские художники — Олег Кулик, Влад Мамышев-Монро, АЕС — достаточно ярко отразили в своих работах природу отечественного (американизированного по сути) гламура. Однако им пока не удалось выйти за границы простой репрезентации гламурного интерфейса. Обнажить подноготную гламура (его бессознательное) наиболее откровенно удалось американской художнице Синди Шерман, особенно в ее фотосериях рубежа 80— 90-х (например, в Civil War). Эти фотографии весьма гламурны сами по себе, но они при этом являются и приговором гламуру. У Шерман энтропийный распад, монструозные маски и глянцевые «частичные объекты» оказываются рядом друг с другом, свидетельствуя о том, что образы «шикарной» красоты скрывают за собой нечто ужасное.
И если гламур богатых и рафинированный постгламур арта всячески изголяются, чтобы отвернуться от этой жуткой правды (как, впрочем, и мой прекраснодушный берлинский коллега), гламур «для бедных» позволяет нам увидеть эту правду воочию.
|