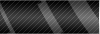Александр Лазарев – премьер труппы Ленкома – и, кажется, является очень успешным человеком. Знает это, не стесняется, не кичится этим, благодаря чему являет собой редкий пример благополучного в театре человека. И тем не менее… Александр Лазарев – премьер труппы Ленкома – и, кажется, является очень успешным человеком. Знает это, не стесняется, не кичится этим, благодаря чему являет собой редкий пример благополучного в театре человека. И тем не менее…
– Вы спокойно относитесь к тому, что ваша известность может исчезнуть?
– Ну как… Если перестану сниматься – забудут очень быстро. Буквально за сезон.
– Вас радует, что узнают, что девочки у служебного входа театра ждут?
– Девочки особо не ждут… Иногда только. Меня, честно говоря, это не радует и не огорчает – это часть профессии. Разрываться от радости, что меня узнают на улице, – нет, не разрываюсь, да и мешает это порой. Но это часть профессии. Так я к этому и отношусь.
– У вас дочь учится в ГИТИСе. Как и что вы ей говорите про известность? Вы озабочены тем, чтобы в случае успеха у нее не случилась бы звездная болезнь?
– Вы знаете, она такая в этом смысле взрослая, что ей ничего не надо объяснять, и я уверен, звездной болезни у нее не будет – гены хорошие.
– Вы как-то сказали, что вы строгий отец. Чего нельзя делать вашим детям – вообще нельзя?
– Нельзя обманывать. Желательно – не грубить. Обманывать – самое, конечно, гадкое, потому что это и обижает, и унижает того, кому врешь. Старшая не обманывает, а младший подвирает по-детски. Но это сразу видно – глаза-то честные.
– Дом – на вас или на жене?
– В равной степени. Я работаю довольно много, она – детей по утрам в школу отводит, уроки с ними делает. Я считаю, что встать зимой в семь утра и отвести ребенка в школу – и делать это каждый день – подвиг.
– Вы сказали как-то, что жизнь интереснее для вас, чем театр…
– Ну конечно! Театр ведь лишь отображает жизнь, а любое отображение всегда хуже оригинала.
– Вам нравится жить сейчас, современные реалии вам удобны?
– Конечно, сегодняшняя жизнь предоставляет очень много свободы – по сравнению с тем, что было 15–20 лет назад. Но тогда зато не было такой пресыщенности. Были огромные желания и мечты. Сейчас все это сократилось, потому что можно много. Что лучше – мечты или возможности, – не знаю. Правильнее, наверное, книжки читать.
– У вас есть табу для сцены?
– Конечно. Нецензурные выражения.
– Даже в гениальной роли?
– Даже в гениальной роли. Начать материться на сцене – значит изменить своим принципам.
– А в жизни вы не материтесь?
– В жизни матерюсь. Но немного и знаю, что это плохо. На сцене – публично – не буду. Потому что публично ругаться матом – это оскорблять мать-землю, свою родную мать и Богоматерь. Раздеваться на сцене никогда не буду. Все, что связано с физической тайной, – не буду делать.
– Вы нашли своего режиссера?
– Конечно. Марк Захаров. «Королевские игры» – это спектакль, который меня сделал. А Марк Захаров – единственный режиссер, с которым я работал в театре до последнего времени. Только сейчас появился Александр Морфов, с которым мы второй спектакль делаем – «Визит дамы» (первый – «Затмение, или Пролетая над гнездом кукушки», в котором Лазарев сыграл МакМерфи. – Прим. ред.).
– Интересно?
– Очень. Он совсем другой, чем Марк Анатольевич, – что естественно. Захаров невероятно сложный, объемный, выполнить его просьбы непросто, порой даже мучительно. Ему нужно соответствовать, Захарову. К нему просто так на репетицию не придешь. Он сам приходит подготовленным на сто процентов. Знает, что будет делать сегодня на репетиции, – еще вчера вечером. И прийти пустым и просто от него чего-то ждать – не получится. Надо что-то приносить самому. Пусть не самое умное, но предложить. У нас даже поговорка есть специально для репетиций с Захаровым: «Разрешите глупость сказать». Я не говорю, что к Александру Морфову можно приходить пустым, но у Александра больше ежесекундной импровизации. Совсем разная у них матера творческая. Но театрального артиста, конечно же, сделал из меня Захаров. Начали родители, продолжил Калягин (Лазарев учился в Школе-студии на курсе А.А. Калягина. – Прим. ред.), а завершил Захаров.
– Кого из авторов вы либо совсем не играли, либо играли мало, а хочется больше?
– Шекспира. Я даже в институте ничего Шекспира не играл. Был и Островский, и Чехов, и современные авторы – Петрушевскую мы играли, в театре уже дважды я столкнулся с Дюрренматтом, с Бомарше, с Гориным, с Шолом-Алейхемом, а с Шекспиром – только однажды, когда старшие коллеги передали нам «Гамлета», и я сыграл Клавдия. Это была хорошая история. Тогда даже так подали в прессу, что в этом спектакле родилось второе поколение Ленкома – Раков, Певцов, Соколов, Захарова, я. У меня есть коротенькая телевизионная запись того спектакля, и, честно говоря, мне очень нравится, как я там играю.
– Вам часто нравится, как вы играете? Вообще от себя больше удовлетворения или недовольства?
– Удовлетворения – точно нет. Порой бывает равнодушие. Бывает и раздражение. Я смотрю на себя в «Королевских играх» и в «Фигаро» – спектакли, которые я играю соответственно 15 и 13 лет – и, знаете, я себе там надоел. Хотя говорят, что я там нормально работаю, но сам себе я надоел. Хочется по-другому что-то сделать, а это не возможно, потому что там очень жесткий рисунок. Но это и называется работа, наверное. Как у Чехова сказано: «Неси свой крест и веруй».
– А что самое главное в актерской профессии?
– А вот это и главное, наверное. Причем не только в актерской профессии – в любой.
– Почему люди не уходят из актерской профессии, даже если терпят в ней полный крах?
– Людям в принципе свойственно бояться менять образ жизни. Причем вот что удивительно: человеку отведено какое-то – в космических масштабах – совсем небольшое количество лет, а люди посвящают себя только одному делу. Казалось бы, добился чего-то, стал народным артистом, например, ну займись чем-нибудь другим! Ну что тебе интересно? Попробуй! Что там – кораблестроение, еще что-то… Пока силы есть, пока желание есть… Но – страшно. Страшно. И есть колоссальная ответственность за семью, которую надо элементарно содержать. Я себе представил, что бросаю театр и кинематограф и начинаю заниматься яхтенным спортом где-нибудь в Северной Франции. Не очень мне представилась перспектива жизни там.
– Вы считаете себя удачливым человеком?
– Конечно. Мне очень повезло, что в Ленкоме оказался, что в институт с первого раза поступил.
– Могло быть иначе с вашей внешностью и фамилией?
– Все могло быть. Я понимаю, что мне очень повезло, потому что я не хожу на работу не с девяти до шести и не слежу за стрелкой часов, отсчитывая минуты до того момента, когда можно будет уйти из ненавистного офиса. А так многие живут. А так жить нельзя! Так что, конечно же, мне повезло. Могло все иначе повернуться.
– Комплекс актерских детей – детей известных родителей – у вас был?
– Да. И у моей дочери Полины он был на первом курсе ГИТИСа. Она мне запрещала к институту близко подходить. Не только мне. Всем. Только на экзамен. Причем не все сразу, а по одному только пускала.
– Не советуется с вами по профессии?
– Советуется. Но у нее этот комплекс быстрее прошел, чем у меня, – она быстрее себе доказала, что что-то может в профессии, а не просто является дочкой и внучкой актеров. Что она сама по себе чего-то стоит.
– Интересно, а ваши табу касательно сцены на нее распространяются?
– А она и сама не станет ни раздеваться, ни материться. У нее и внешность неподходящая.
– Много говорят о том, что актерская профессия требует больших человеческих жертв. У вас так?
– Я ничем серьезным ради актерской профессии не пожертвую никогда. По мелочам – что-то типа работы в кино ради работы в театре – да, этим жертвовать приходится. Но без театра практически невозможно существовать профессионально. Театр – это наш инструмент, наш тренинг. Театр очень дисциплинирует. Нельзя не прийти. Нельзя быть неготовым. Лишившись этого, можно очень быстро внутренне распуститься. И последствия этого могут быть самые ужасные, потому что актерский механизм, актерский инструмент растренировывается безвозвратно. Захаров говорит о некоей точке в актерском возрасте, когда появляется развилка: можно сохранить верность человеческой правде, правде изображения человеческих эмоций, а можно, заигравшись, уйти в завывания, стать этаким «Актер Актерычем». Дело в том, что совсем не всегда душу надо вываливать на сцену, и вместо душевного, духовного стриптиза надо иногда уметь изобразить эмоции, но очень честно. Чтобы никого не обманывать. А без кино трудно существовать материально.
– Когда-нибудь было в вашей жизни, чтобы был неуспех?
– Конечно. «Плач палача» для меня – провал. Хотя в семье мне говорят, что это только мне так кажется. И «Чайку» я получил вроде за эту роль, но все равно успешной я ее не считаю.
– Страшно, когда провал?
– Если каждую роль считать последней, наверное, страшно.
– Вы считаете каждую роль последней?
– Нет.
– В какой телевизионный проект вы бы согласились пойти?
– В «Последний герой». Очень хочу. И зовут. Но кто меня отпустит из театра на 40 дней?
– Когда у вас отпуск, чем вы занимаетесь?
– Стараюсь уехать из Москвы. Как-то сменить обстановку.
– Любите Москву?
– Люблю, но у меня к ней очень много претензий.
– Каких?
– Пробки, хамство на дорогах, что возмущает ужасно, особенно когда приезжаешь из Европы. Но не только это. Количество отвратительных памятников, бессмысленных дорожных работ, которые ни к чему не приводят, уродливых новых зданий.
– Что самое ценное для вас?
– Семья. Вся моя огромная семья.
– Как вы относитесь к жизни – если одним словом определить: чего больше к жизни – страха, любопытства?
– Доверия.
– К вопросу о доверии, вы подаете милостыню?
– Да
– Почему?
– Я подаю всем, потому что если они просят, им в любом случае хуже, чем мне. Я слышал, что они врут, что они профессионалы, но мне это все равно – мне не жалко и не трудно подать.
Материалы предоставлены порталом «Театральные Новые Известия ТЕАТРАЛ»
|