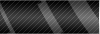– Фонд помощи актеров актерам, организованный вами и Евгением Мироновым, будет существовать, даже если ваша личная ситуация и финансовая ситуация в стране изменится?
– Фонд возник из необходимости. Я просто увидела, что это надо сделать. И стала это делать. Женя Миронов, как выяснилось, тоже долго ходил вокруг этой идеи, так что тут наши устремления совпали, к счастью. Сейчас кризисное время, и деньги стало сложнее находить даже уже в ноябре, по сравнению с тем, как было в сентябре. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что будет еще сложнее. Поэтому рассчитывать надо на свои силы, актерские. В марте мы устраиваем марафон спектаклей, сбор от которых полностью пойдет в наш фонд. Конкретно мы помогаем тем, что живет в доме ветеранов сцены. Это 32 человека, очень пожилых, за 75, одиноких, нуждающихся в самом необходимом: лекарствах, каких-то бытовых вещах. Но помимо этих – бытовых сложностей, которые наш фонд пытается и будет решать, есть еще вопрос внимания к этим людям. Мы пытаемся и этот вопрос решить. Привозим артистов к ним, устраиваем концерты, их самих возим на спектакли. Работа ведется все время. Знаете, даже когда не очень много денег, все равно можно придумывать что-то радостное и праздничное. Но материальные средства очень важны.
– Люди легко откликаются – дают деньги или участвуют в концертах?– Да. Я была очень приятно удивлена тем, что при организации концерта в Пушкинском музее, на котором только из рук в руки мы передали миллион семьсот рублей (и это была самая большая часть расходов, больше, чем потребовалось на аренду зала, еду, свет, звук и прочее). Откликнулись практически все актеры, которым мы с Женей звонили. Собственно благодаря им и удалось сделать этот вечер. Компании, которые давали деньги, – никто не захотел использовать этот концерт для самопиара.
– Почему вам захотелось помогать чужим, в общем-то, людям?– Потому что я увидела, как живут те, кто отдал всю жизнь сцене и театру. А, увидев, оставаться в бездействии, никак не помочь было уже невозможно.
– За последние пять лет сформировалось новое поколение театральных людей – актеров, режиссеров, художников, музыкантов. Вы, безусловно, к этому поколению принадлежите. Что вас всех объединяет кроме совместных проектов?– Внутреннее мироощущение. Творческая профессия – очень личностная. Она не может быть в разрыве с тем, что происходит вокруг. Когда режиссер и актер живут в духе живого восприятия жизни, в одной вибрации со временем, а не только в рамках профессии, тогда только профессия приобретает смысл и перестает быть лишь выходом на сцену. Наши общие координаты – это живое восприятие происходящего. В театре, безусловно, это Кирилл Серебренников, Андрей Жолдак, Миндаугас Карбаускис и, конечно же, это Эймунтас Някрошюс, который существует даже не на вибрации сегодняшнего дня, а на какой-то вековой вибрации, соединяющей в одной точке сегодняшнего все смыслы – так же, как Сокуров в кино.
– А что такое – современность? Все понимают, о чем речь, но почти никто не может дать определение…– Для меня это безжалостное отношение к любым штампам, к любым стереотипам. Это взрывание неживого искусства. Это состояние, когда ты каждый раз ничего не знаешь, ничего не понимаешь. Когда к каждой новой работе ты подходишь без понимания того, как ты будешь это делать, но с очень точным пониманием смысла того, что ты будешь делать. Тогда это может стать современным.
– Вы чувствуете по отклику зала, получилось ли донести до людей то сущностное, ради чего вы выходите на сцену, или нет? – Сложно сказать. Часто ощущения обманывают. В театре – совсем сложно, потому что это живой процесс. Бывает, что не получается. Но я за то, чтобы не бояться провала. Не бояться сделать что-то не так. Наоборот, надо все не так сделать, только ради того, чтобы попытаться донести до людей смысл, суть, то самое главное, что сейчас надо сказать, – тогда театр интересен. Когда не получается – я мучаюсь, конечно, но в период подготовки, репетиций. А в тот момент, когда самолет должен оторваться от земли и набрать высоту, когда спектакль уже выходит на публику – нельзя бояться. Просто математически надо рассчитать все, что происходит на взлетной полосе. А потом – полное бесстрашие, вперед, не боясь того, что подумают, не размышляя о том, понравишься или нет, стремиться только к тому, чтобы взлететь. И даже если не получается набрать ту высоту, которую намечал, тоже ничего страшного. Главное – сделать попытку.
– Когда читаешь ваши интервью, в какой-то момент складывается ощущение, что вы знаете, как жить – такие точные, четкие ответы вы даете на каждый вопрос, который вам задают. Но ведь вряд ли это так?– Конечно, нет… Мои ответы складываются из какого-то моего опыта. Просто у меня в жизни все было неправильно, и только благодаря этому у меня стало выкристаллизовываться понимание того, что стихию, энергию жизни надо направлять, иначе просто очень страшно. И кроме тебя никто не сможет это сделать. И энергией, и жизнью надо научиться владеть, иначе она тебя накроет. Все мои ответы – это от постоянного поиска. От постоянных моих попыток овладеть жизнью стали появляться какие-то мысли про жизнь, и они меня не обманывают – опять же, не в теории, а на опыте не обманывают, поэтому я и могу о них говорить.
– Еще про вас легко подумать, что вы очень рациональны… И, боюсь, это тоже обманчивое ощущение.– Да. Если бы я была рациональным человеком, я бы никогда не смогла работать с Андреем Жолдаком. Творческий человек не может быть рациональным по определению.
– Если перед каждой новой работой надо выкинуть свой предыдущий опыт – и тогда может родиться живое искусство в театре, то, что такое профессионализм в театре? – Последнее время у меня складывается ощущение, что где-то профессионализм, конечно, остается, в навыках, наверное, но каждый спектакль – это все равно не понимание того, как перейти реку. При этом ты понимаешь, что десять раз ты эту же реку уже перешел, значит, наверное, перейдешь и одиннадцатый. Но когда начинаешь ее переходить, становится очень страшно, потому что не понятно, перейдешь ее или нет именно сегодня.
– Перед началом спектакля вам страшно? – Скорее это не страх, а трепет. Но мне нравится это состояние. На этом состоянии незнания и непонимания и будет возникать что-то живое.
– Это адреналин или волнение другого рода?– Не знаю. Последнее время я ощущаю это как преодоление...
– Себя?– Да.
– А зала?– Нет, только себя. Потому что если преодолеешь себя, то и зал возьмешь. Я не могу назвать это страхом, хотя иногда очень похоже на страх. Но все-таки это не до конца страх. Это преодоление.
– Есть, условно говоря, два подхода актера к репетициям: «райкинский», когда актер не спорит, не задает вопросов, а максимально точно пытается выполнить режиссерское задание, и если и находится в диалоге с режиссером, то во внутреннем, и «нееловский», когда актер находится в открытом и постоянном диалоге-споре с режиссером. Какой ближе вам?– В театре есть пьеса, как у музыкантов, – нотная партитура, и, конечно, если меня попросят исполнить кусочек из середины пьесы, которую я не знаю, с которой я ни дня не прожила, я сыграю. Но фальшиво. А фальши на самом первом этапе репетиции я очень боюсь. Я вообще всегда ее боюсь. Лучше не сделать ничего, чем сделать фальшиво. На репетициях мне нужно понять от и до, что делает режиссер, что он выстраивает, пройти – без себя вообще – то, что он предлагает, понять, в чем мы сходимся, и дальше, на этой точке схождения, – уже на прогонах, на премьере, я включаюсь – уже в тот момент, когда спектакль выходит на публику. В самом начале должно родиться еще – что мы хотим сказать, зачем мы вообще все делаем. С Жолдаком мне было легко, потому что он очень четко выстраивал свою, режиссерскую, часть, а актерскую целиком отдавал мне на откуп. Есть режиссеры другого склада – мне с ними тяжело работать: они начинают делать работу актера, рассказывать биографию героини, что она тут хочет, что она тут делает. Мне так работать сложно, потому что все это, как правило, есть у автора, и актер это сам должен понимать, чувствовать. А если ему все рассказали, то это уже навязанная исполнительская точка зрения. Навязанная, то есть не искренняя. Потому что искренняя она только в том случае, когда тобой рождена. Поэтому мне тяжело работать с режиссерами, которые за актера пытаются что-то родить. Это сразу снижает и результат, безусловно, и процесс.
– Что для вас самое важное на сцене?– Когда рождается музыка. Когда все так хорошо сделано, продумано, высчитано, что из запланированного рождается незапланированное – музыка, которая идет вразрез, над сюжетом, над словами. Музыка не быта. Для меня это самое важное на сцене.
– Вы допускаете для себя ситуацию, когда вы перестанете заниматься театром?– Допускаю. Потому что театр мне важен в связи с каким-то жизненным процессом, а не просто так. Просто так я могу выйти и исполнить роль Эльмиры в спектакле «Тартюф». Я могу выйти и исполнить ее с радостью, с куражом, иногда с преодолением, но это как раз не тот процесс, который увлекает меня лично. Эльмиру я могу играть, а могу и не играть. Если таких ролей станет большинство, то могу и перестать заниматься театром.
– К тому, что вы становитесь все больше и больше известны, вы относитесь спокойно?– Я этого никак не ощущаю.
– Вас узнают на улице?– Узнают. Но к моему внутреннему миру, ко мне лично это не имеет отношения.