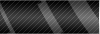Со спектакля знаменитого мюнхенского «Каммершпиле» треть зрителей убежала в антракте, но досидевшие до конца устроили артистам овацию Со спектакля знаменитого мюнхенского «Каммершпиле» треть зрителей убежала в антракте, но досидевшие до конца устроили артистам овацию
Когда перед самым финалом «Трех сестер» — последнего пункта разнообразной программы нынешнего NET — семья Прозоровых затянула «Yellow Submarine», бодро дефилируя от задника к рампе и обратно, зал поначалу радостно забил в ладоши. Но почти сразу осекся, вдруг погрузившись в томительную тишину. С тем чтобы дать волю чувствам уже на поклонах — ей-богу, такого количества истошных «Браво!» я не слышал давно, а если и слышал, то исключительно в театрах оперы и балета.
В этом небольшом эпизоде почти четырехчасового представления выпукло отразился способ взаимоотношений Андреаса Кригенбурга с публикой. Знаменитый немецкий режиссер то играет в «Трех сестрах» на «понижение», то вдруг наносит аудитории резкий эмоциональный удар.
 В первую очередь стоит описать главную из визуальных «фишек» постановки — удивительные маски. Впрочем, и не маски даже, а род объемных аниматорских голов-скафандров, в которых каждый из дисциплинированных баварских артистов проводит добрую половину сценического времени. Именно в масках, вызывающих ассоциации то ли с образом голливудской куклы-убийцы Чаки, то ли с выбракованными изделиями популярной у девочек всего мира фирмы Bratz, безмятежно распевается сочинение Дж. Леннона/П. Маккартни. Именно в этих чудовищных «нахлобучках» семейство Прозоровых и их гости существуют в такие узловые моменты пьесы, как именины Ирины или ночь после городского пожара. В первую очередь стоит описать главную из визуальных «фишек» постановки — удивительные маски. Впрочем, и не маски даже, а род объемных аниматорских голов-скафандров, в которых каждый из дисциплинированных баварских артистов проводит добрую половину сценического времени. Именно в масках, вызывающих ассоциации то ли с образом голливудской куклы-убийцы Чаки, то ли с выбракованными изделиями популярной у девочек всего мира фирмы Bratz, безмятежно распевается сочинение Дж. Леннона/П. Маккартни. Именно в этих чудовищных «нахлобучках» семейство Прозоровых и их гости существуют в такие узловые моменты пьесы, как именины Ирины или ночь после городского пожара.
Это радикальное решение вроде бы легко расшифровывается: огромные деформированные черепа принадлежат группе сказочно упрямых взрослых детей, всеми силами старающихся задержаться в своем развитии, навсегда остаться в прекрасном прошлом, в чудесной «желтой подводной лодке»… Но стоит лишь на мгновение засомневаться в собственной счастливо сооруженной концепции — ну хорошо, с сестрами, положим, все понятно, а почему здесь фигурирует такой же яйцеголовый полковник Вершинин, не говоря уже о Солёном? — как она начинает стремительно трещать по швам.
В том-то и дело, что в этих «Трех сестрах» явлена довольно лобовая, но все же принципиально непознаваемая метафора. Каков алгоритм периодического снимания и надевания разом отвратительных и трогательных уборов? И чем объяснить то обстоятельство, что в некоторых сценах один из собеседников «с головой», а другой — без нее?..
Подобными же вопросами можно задаться и относительно других эффектных находок спектакля. Мощная струя орехов, вдруг обрушивающихся вскоре после начала прямо с потолка на бедную Ольгу (скорлупа потом будет долго еще трещать под офицерскими сапогами, а иные герои станут высматривать в этой массе целые ядра, подбирать их с полу и аппетитно ими хрумкать). Или взвод зависших посреди зеркала сцены мини-дирижаблей. Быть может, они символизируют невозможность полета-перемещения в Москву?.. Невозможность вырваться из почти стерильного «пустого пространства» спектакля?
 Кажется, дело все же в другом. Никакой Москвы, судя по всему, в этом спектакле и вовсе нет. Байки сторожа земской управы Ферапонта — и про натянутый через всю столицу канат, и про петербургский мороз в двести градусов — звучат у Кригенбурга с пугающей убедительностью. Кажется, дело все же в другом. Никакой Москвы, судя по всему, в этом спектакле и вовсе нет. Байки сторожа земской управы Ферапонта — и про натянутый через всю столицу канат, и про петербургский мороз в двести градусов — звучат у Кригенбурга с пугающей убедительностью.
Душераздирающие сестринские nach Moskau — тут всего лишь заклинания из безысходно затянувшейся страшной сказки. А остроумно дописанные за классика диалоги и монологи льют воду большей частью на мельницу Чебутыкина, однажды предположившего: «Может быть, нам только кажется, что мы существуем, а на самом деле нас нет». Ближе к финалу представления Прозоров, вопреки сюжету пьесы, вдруг сообщает домочадцам и зрителям, что Софочка и Бобочка, их с Наташей детишки, — всего лишь плод их же собственного воображения. Мечта, которую они страстно и старательно лелеют и которая никогда не осуществится.
В этот момент кажется, что текст Чехова увиден в «Трех сестрах» Андреаса Кригенбурга сквозь призму обэриутских сочинений. «Вижу, вижу, как в идеи/ Вещи все превращены./ Те — туманней, те — яснее, /Как феномены и сны». Это четверостишие Николая Олейникова было бы вполне уместным эпиграфом к спектаклю мюнхенского «Каммершпиле» — на загляденье стильному, победительно самоуверенному и доводящему некоторые чеховские прозрения до милого зрителям XXI века абсурда.
|