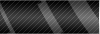Со смертью известного во всем мире писателя Чингиза АйтматоваКиргизия потеряла великого человека. Об этом заявил сегодня президент республики Курманбек Бакиев во время памятного реквиема на мемориальном комплексе "Память предков", где полгода назад был похоронен писатель. Мероприятие прошло в связи с 80-летием со дня рождения Айтматова. Со смертью известного во всем мире писателя Чингиза АйтматоваКиргизия потеряла великого человека. Об этом заявил сегодня президент республики Курманбек Бакиев во время памятного реквиема на мемориальном комплексе "Память предков", где полгода назад был похоронен писатель. Мероприятие прошло в связи с 80-летием со дня рождения Айтматова.
"Мы думали, что этот день будет отпразднован с большой радостью и торжеством вместе с Чингизом Торекуловичем, - сказал глава Киргизии. - Но, судьба распорядилась иначе". Президент отметил, что в новейшей истории страны впервые год посвящен отдельной личности: 2008-й был объявлен Годом Айтматова. "И Чингиз Айтматов, как никто другой, достоин такого почета. Его творчество стало отдельной эпохой в мировой культуре, а он сам - духовным столпом киргизского народа. Нам с вами посчастливилось быть его современниками, и наш святой долг донести до подрастающего поколения высокие идеалы человеколюбия и доброты, любви к прекрасному, чистому и вечному, прославляемые им в его бессмертных творениях", - подчеркнул президент.
Указом Бакиева Театру русской драмы республики, расположенному в центре столицы, дубовому парку и кампусу киргизско-турецкого университета "Манас" будет присвоено имя Айтматова. Правительство будет выплачивать стипендии имени Айтматова.
 Полвека назад Луи Арагон перевел на французский язык одну из первых повестей молодого писателя из далекой, чужой и непонятной для европейца страны – советской Киргизии. Прошло совсем немного времени, и этого автора стали называть «киргизским Гарсия Маркесом». Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Чингиза Айтматова. Писатель не дожил нескольких месяцев до юбилея. Его книги – это протест против потери исторической памяти, призыв к человечности. Проза Айтматова переведена на сто языков. Ее признанию способствовали не только переводы, но и удачные экранизации. Полвека назад Луи Арагон перевел на французский язык одну из первых повестей молодого писателя из далекой, чужой и непонятной для европейца страны – советской Киргизии. Прошло совсем немного времени, и этого автора стали называть «киргизским Гарсия Маркесом». Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Чингиза Айтматова. Писатель не дожил нескольких месяцев до юбилея. Его книги – это протест против потери исторической памяти, призыв к человечности. Проза Айтматова переведена на сто языков. Ее признанию способствовали не только переводы, но и удачные экранизации.
1977 год. Десятый Московский кинофестиваль. Чингиз Айтматов такое событие пропустить не мог. Он однажды признался, что для него событием был даже простой поход в кинотеатр, а тут – целый фестиваль. В то время он уже был признанным во всем Союзе писателем, негласным лидером советской литературы и негласным любимцем молодых кинорежиссеров.
Он легко относился к ситуациям, когда режиссеры что-то меняли и сокращали в его произведениях. Неизвестно как ему это удавалось, но свои фильмы он всегда умел защитить, даже когда в фильме Андрея Кончаловского впервые на экране богатый человек был показан с симпатией. «Картину просто зарубили. Андрон был страшно расстроен, началось хождение по мукам, по местам, и я помню, что Чингиз Торекулович защитил картину», – рассказывает заслуженная артистка России и Казахстана Наталья Аринбасарова.
Его удивительные глаза – теплые и мудрые – это самое яркое воспоминание Натальи Аринбасаровой от первой встречи с Айтматовым. Ей тогда было семнадцать, а в двадцать лет ее имя уже знал весь мир. Главный приз за лучшую женскую роль жюри Венецианского кинофестиваля тогда присудило не Джейн Фонде, сыгравшей в фильме Роже Вадима, а героине Аринбасаровой – озлобленной и ощетинившейся, как зверек, девочке с необычным именем Алтынай. «Я не могу себе представить, как бы сложилась моя жизнь, если бы не произошла встреча с Чингизом Торекуловичем», – признается она.
Его прозу называли глотком воздуха, словно подувшего с гор. В его книгах и сценариях искали правды, командировки в Киргизию для съемок фильмов и вовсе называли приключением. Режиссер фильмов «Я –Тянь-Шань» и «Джамиля» Ирина Поплавская до сих пор с волнением вспоминает, как начиналась их работа с Айтматовым над фильмом, который она называет почти «киргизской "Анной Карениной"». «Звонка не было. Я страшно переживала, для меня было вопросом жизни снимать "Джамилю", вопросом жизни в искусстве – настоящей или поддельной», – рассказывает она.
«Джамиля» объездила полмира, «Белый пароход» завоевал множество международных наград. Рекордсменом по количеству экранизаций стала повесть «Тополек мой в красной косынке». С именем Айтматова связано начало киргизского кинематографа, его много ставили и за пределами СССР. «В целом, кинематографическое наследие по произведениям Чингиза Айтматова, на мой взгляд, не менее важно, чем его литературное наследие», – считает киновед Кирилл Разлогов.
В чем секрет его драматургии – в простой и трогательной истории или в философской притче, в среднеазиатском колорите или общечеловеческих проблемах? Некоторые режиссеры несколько раз обращались к его прозе. Любитель и знаток кино Чингиз Айтматов не возражал. Он говорил, что с экранизацией у книги начинается вторая жизнь.
Айтматов Чингиз. По материалам передачи "Линия жизни"
 В детстве он верил, что сказки иногда берут взаймы. Он думает, что современная литература находится в растерянности. А еще Айтматов уверен: русский язык - энергетика словесности... В детстве он верил, что сказки иногда берут взаймы. Он думает, что современная литература находится в растерянности. А еще Айтматов уверен: русский язык - энергетика словесности...
Чингиз Айтматов в передаче «Линия жизни»:
Предстоит, как я понимаю, разговор-откровение, во всяком случае, моего, авторского откровения. Я попытаюсь кое-что сказать в этом смысле, ибо наша передача называется «Линия жизни». Так вот, как сложилась эта линия, и линия ли это вообще, ведь прямой, безупречной линии никогда не бывает.
Перед этим мне хотелось бы отметить, я очень удовлетворен и придаю этому большое значение, - я смотрю, в этой аудитории в основном, молодежь, а это сейчас для нас, для далеко не молодых литераторов, имеет существенное, знаковое значение. Я объясню вам - почему.
Последнее десятилетие в основном моя жизнь протекает за рубежом, в Европе, поскольку я нахожусь на дипломатической службе. И, может быть, поэтому, но, думаю, не только поэтому, а и потому, что изменилась читательская атмосфера в нашей стране. Я говорю «в нашей стране», имея в виду все вместе взятое: Россию, естественно, прежде всего и прилегающие ныне к России все страны СНГ, все то, что прежде именовалось СССР. Литература тогда тоже занимала свое достойнейшее место , но с тех пор очень многое изменилось.
Я, например, большую часть времени посвятил своей службе дипломатической, и, может быть, именно потому, что я в Европе, мои читатели вдруг все оказались именно там: в Германии в основном, в Швейцарии, в Австрии, в Голландии, отчасти во Франции (французский и немецкий читатель – это разные типы, я в этом убедился).
Мне в смысле читательской аудитории повезло. Есть такое издательство в Швейцарии, в Цюрихе, которое постоянно издает и переиздает мои книги. В этом смысле мне тоже повезло: только на немецком языке за этот период изданы и переизданы книги тиражом более 1 млн. экземпляров. Для теперешних времен, вы сами понимаете, это много. Это в советское время для нас миллион – это было одноразовое издание, миллионными тиражами и журналы выходили, издавались и книги наши. В этом смысле благодатная была пора: тиражи были огромные. Сейчас все изменилось. Вы понимаете, что плановая система, которая рухнула, она имела тоже кое-какие свои положительные стороны: по плановой системе, если книга попадала в список издаваемых новых произведений, мы даже не интересовались, какой будет тираж, большой или… Само собой: если книга достойна того, чтобы представить ее современному читателю, она огромными тиражами издавалась.
В этом смысле европейский читательский плацдарм для меня оказался спасительным в каком-то смысле; каждый год это издательство устраивает по своей инициативе читательские встречи. С одной стороны (прежде я этого недопонимал), оказывается, - это реклама, реклама книги, и издательство от этого что-то имеет. Но каждый год, особенно осенью, месяц читательских встреч: по разным городам разъезжаемся - общение и выступления с переводчиком. У меня замечательный переводчик - Фридрих Хитцель, сам пишущий человек. И даже один из его романов, «Прощай, Татьяна», может быть, вам попадался среди книг. Это его книга, имеющая прямое отношение к нашей среде, я имею в виду советскую эпоху, роман по сюжету связан с этим.
С Фридрихом Хитцелем мы разъезжаем, как говорится, по городам и весям, не осталось, наверное, ни одного городка, где бы не было подобного рода встречи. И что мне очень хотелось отметить: эти встречи протекают как бы спонтанно, хотя, конечно, заранее подготовлено всё. И очень часто встречи проходят в церквях. Для нас это непонятно: как это, церковь есть церковь, туда идут только на богослужение, а европейцы настолько в этом смысле либеральны. И сами священники, которые предоставляют возможность: сегодняшний вечер целиком и полностью - пожалуйста, наша цель – чтобы писатель такой-то встречался со своими читателями.
Огромная аудитория, до 1000 человек, люди на балконах, везде и всюду… И я сразу смотрю – есть молодежь? Если есть молодежь, для меня это определенный знак, символ. Значит, связь, духовная связь, читательская связь с новым поколением, она идет в лад. А вот бывают и такие отдельные случаи, когда я смотрю – их почти нет. Тогда мне становится грустновато, я думаю: «Да, они увлечены чем-то… новыми веяниями литературы, новыми событиями моды и культуры. А мое сокровенное слово…» Я осмеливаюсь сказать, что это сокровенное слово, каждое слово, которое я излагаю в своих текстах, для меня оно сокровенное, и никаких сомнений у меня в этом смысле нет. Я истину, стараюсь сказать, истину, правду, и еще жду, что мне представится другая возможность продолжить этот путь.
Европейские встречи с читателями - они очень многое мне дали: вопросы, ответы… Обычно бывают вопросы «С чего началась Ваша творческая деятельность? Почему, каким образом Вы пришли в литературу?» И, казалось бы, очень просто на это было ответить: вот так сложилась жизнь, я любил читать книги, литературой увлекался. Тогда таких возможностей, как сейчас, не было: вы нажимаете кнопку, и телевизор вам все, весь мир представляет. Пойти в кинотеатр – это было тоже событие. В кино любил ходить. Для меня это было всегда захватывающее зрелище. Более того, я еще застал тот период, когда привозили для показа киноленты, механики приезжали, устанавливали динамо-машину, которую надо было крутить вручную, а на стене экран.
Я все больше прихожу к выводу, что слово – это суть человеческого бытия. То есть в человеческой сущности, в человеческом бытии нет ничего, что могло бы быть помимо слова: любое действие, любое открытие, любое движение, любой поступок для человека идет через слово. И только так продолжается осмысление сути жизни и освоение всей Вселенной.
В «Независимой газете» была целая полоса на эту тему, где я пытался рассуждать, ссылаясь на древнейших акынов наших краев. А акыны – это поэты-импровизаторы. Они могут предстать перед публикой и три-четыре часа безостановочно, в пылу вдохновения изливать душу в стихах. Не в прозе - в стихах. И они каждый раз подчеркивают, что слово – начало всего. И то, что в Библии и в других священных писаниях указывается, что слово – это Бог, это поистине так.
В детстве мне часто приходилось слышать этих великих акынов. Эпические сказания, притчи. И еще личный момент: мне Бог послал такую бабушку, мать моего отца, - она была великой сказительницей. Она сказки могла рассказывать с утра до вечера. И на лето она меня забирала в горы, и там мне рассказывала сказки, причем, каждый раз были новые и новые сказки, и всё интереснее и интереснее. Я уже потом пришел к выводу, что она сама сочиняла сказки. Она культивировала во мне пристрастие к сказкам, и, более того, она и тренировала, оказывается, меня. Иногда, рассказав сказку какую-то и видя, что я с огромным вниманием и восхищением слушаю, она мне говорила: «Ну-ка, теперь ты. Я тебе рассказала, а ну-ка, ты теперь мне повтори. Повтори, что я тебе рассказала». И я повторял, и если это получалось как надо, она меня гладила по голове и говорила: «Ну, молодец, ты хорошо слушаешь. Значит, у тебя будет сильная память».
У меня есть книга об этом - «Детство и юность», это мои воспоминания. Но эта книга, она не существует еще ни на русском, ни на киргизском языках, она пока только на немецком языке. Мой переводчик Фридрих Хитцель, мы часто с ним ездим из одного города в другой по автобану, он включал свой магнитофон и всегда меня расспрашивал: «А как было в детстве, а что было потом, а как в годы войны, а как в студенческие?» Я ему все это рассказал. Во-первых, мне хотелось ему об этом рассказать, интересно самому было повспоминать. А он, оказывается, все это записал, и на немецком языке сейчас есть такая книга.
Я рассказываю в этой книге о том, что теперь я понимаю. Моя бабушка тогда, когда не то что о телевизор, даже радио было диковиной, она, бабушка, была моим телевизором - так живо, образно и интересно она рассказывала. И настолько она во мне это пристрастие к сказкам развила, что я уже стал надоедать подчас: «Бабушка, расскажи мне новую сказку какую-нибудь». Она рассказывала, а иногда, видимо, ей надо было как-то отвлечься, сочинить, сообразить что-то такое, она говорила: «Я вот сейчас посплю и увижу сон. И тебе расскажу». Хорошо. Ну, я мог минут 10 терпеть, потом подбегаю: «Бабушка, давай, расскажи, какой ты сон видела?» Она начинает ворчать: «Не успела глаз закрыть, ты уже прибежал. Ну ладно, в таком случае я пойду к соседке и возьму у нее сон взаймы». Вот так она меня уверяла. И я искренно верил, что она ходила к соседке, брала сон взаймы, возвращалась и мне рассказывала.
Был такой случай, немножко конфузный. Она, опять же, объявила, что пойдет к соседке сон взаймы брать, я ждал-ждал, она что-то задержалась долго, я не утерпел, побежал к ним, к соседям, открываю дверь – она сидит там спокойно, чай пьет с соседкой. И я возмущенно кричу с порога: «Бабушка, ведь ты же пришла сон брать взаймы, а ты сидишь, чай пьешь!» Соседка была ошарашена, говорит: «Ничего себе, соль, муку, чай, там, или еще что-то такое друг другу даем взаймы, но еще до этого дела не доходило».
Вот такая у меня была замечательная бабушка. Я часто рассказываю о ней: что-то должно быть в семье или очень в кругу близких людей, что дает импульс. Видимо, тогда уже какое-то пристрастие к сказкам, к повествованию, - это дало первый толчок. Моя линия жизни, наверное, оттуда и начиналась.
А потом жизнь круто-круто изменилась, причем, жесточайшим образом. Началась Вторая мировая война, для нас она Великая Отечественная. Казалось бы, мы школьники были, учились в школе, ну что? Да, тяжкие времена, да, всех берут на фронт, никого не остается, жизнь трудна, голодна. Война есть война, страшная. И я вдруг увидел совсем другую жизнь. Бабушка к тому времени уже на тот свет ушла. И после вот этой романтической, поэтической жизни, после бабушкиных сказок появились сказки войны. Это было страшным дополнением. И переход из одной жизни в другую, страшную, разрушительную, губительную сферу жизни.
Я это говорю к тому, что тут в моей линии жизни один из кардинальнейших моментов. Дело в том, что в один прекрасный день, я учился в 6-м классе, к нам в класс заходят трое стариков местных наших. У нас, вы знаете, патриархальные обычаи: аксакалов уважают, слушают. Они входят к нам и учительнице говорят: «Ты останови пока. Мы пришли сюда, чтобы сказать: никого в нашем селении…» А селение большое, тогда было где-то 540 дворов. Для сельской местности 540 дворов – это большое село. Если в каждом дворе, в семье минимум по 5-6 человек - мать, отец, дети, старики, то представляете, какое население? И вот среди этого населения тогда, в советские годы, только-только обосновавшегося в колхозах и вошедшего в эту коллективную жизнь с ее трудностями, сложностями, и как раз война: не осталось ни одного, нашего человека, который мог бы нести службу секретаря сельского совета.
Для молодежи, наверное, придется разъяснять, что это административная ячейка. Первая ячейка – сельский совет, потом районный совет, потом областной совет и так далее. Всех взяли на фронт, никого нет. А я жил как раз уже в селении, жизнь моя еще была трагически связана с тем, что отца моего в 37-м году репрессировали, мы больше его не видели. Я жил у родственников - у сестры, бабушки уже не было, отец репрессирован, я живу у своей тетки. И в это время в класс приходят старики и говорят: «Мы озабочены тем, что некому нести службу секретаря сельского совета». А это - главное общение со всем окружающим миром. Туда приходят телеграммы, письма, другие документы, оформление разных прочих документов – все через сельсовет.
И они, указывая на меня, говорят: «Мы решили, что этот Ваш ученик, он, говорят, один из лучших Ваших учеников, - а это на самом деле, я неплохо училс. - Он хорошо знает русский язык» - (поскольку я в городской среде был). – «И вот мы хотим его забрать, и чтобы он у нас работал секретарем сельсовета».
Я подчинился этому, как положено. И выведя меня из школы, они сказали: «Больше сюда ты приходить не будешь, пока не кончится война». Повели. «Вот тебе ключи. Вот открывай кабинет, здесь будешь сидеть и будешь с утра до вечера здесь работать». 14 лет, представляете? В 14 лет сейчас попробуйте кого-нибудь заставьте сидеть работать в канцелярии.
Я это рассказываю затем, что тогда раскрылась новая сущность человеческих судеб. Я увидел страшные вещи, потому что я обязан был, помимо всего прочего, миссий моих секретарских, во-первых, все дворы я должен знать: кто, что, как. Но еще и разносить так называемые «черные бумаги». Это похоронные бумаги. У нас их называют «черная бумага». Кажется, что такого: поступают по почте извещения о том, что такой-то погиб на фронте там-то и так-то, и это необходимо вручить его семье. Его жене или его родителям, или его детям, братьям, сестрам. Можно подумать, что взял бумагу, пришел, передал и пошел назад. Такого быть не может. Потому что это такое страшное событие в человеческой судьбе, жизни, что, чтобы прийти и принести это извещение похоронное, надо его вручить соответствующим образом… А мне 14 лет, но я уже вынужден был себя в этом смысле воспитывать.
У меня были советники - старики, старухи, которые мне подсказывали, как надо прийти, что надо сказать, как надо вручить, как надо долго, терпеливо выжидать взрыв эмоций, всплеск этой скорби, горя. И я все это прошел. Я увидел вдруг вспышку трагедии - война: вручаешь - и люди понимают, что произошло. Настолько в отчаянии иногда бывали некоторые женщины, что просто гнали со двора: «Не приходи, это ты, гад такой, принес нам эту страшную весть!» Все это пришлось мне пережить.
И последнее, что мне хотелось бы из детства рассказать. Помимо всего прочего, секретарская служба еще была связана с тем, что тогда существовал так называемый военный налог. То есть каждая семья обязана была, никаких привилегий, никаких льгот не существовало, если зарегистрировано 540 дворов, то 540 выплат военного налога должно быть. А как это, с помощью чего у людей, бедствующих людей…Вдовы продавали свою последнюю телку или козу и все-таки выплачивали. Тогда дух коллективизма был потрясающий. Вот то, что нас отличает от Запада – это, прежде всего наш евразийский дух коллективизма, это наше великое обретение, достоинство, того, чего на Западе почти не ощущаешь.
Я обязан был собирать эти налоги, а это были вот такие кипы денег, инфляция, военное время, и собирал это в мешок - портфелей тогда не было, наверное. У меня была своя коняшка колхозная, а сумка эта - такая переметная сумка, мешок, курдюм называется, вот с этого и с этого бока, они набиты. Я должен за 30-40 километров по безлюдным местам приехать в райцентр, и тогда был всего лишь один банк, он назывался «Госбанк». Туда надо было привезти эти деньги, сдать в кассу, получить документ, что все это сделано, и возвращаться. И пока я ехал, пока я эту операцию проводил, пока я возвращался, утром уезжал и ночью только возвращался, верхом.
И никак я не предполагал, что когда-нибудь это для меня обернется очень страшным образом. И мои родственники, они тоже были настолько простодушны, ни разу меня не предупредили: слушай, ты как один, сам в безлюдной степи едешь, два мешка денег у тебя, это опасно. И я сам не подумал. Тогда нравы были такие - никто никого не грабил. Могли угнать со двора, может быть, козу или овцу, такое бывало, но чтобы вот так где-то останавливать, обирать, грабить или убивать, такого вообще не было.
И вот однажды я еду по этой моей дороге знакомой с двумя этими курдюмами, мешками, лошадка у меня тоже не ахти какая, кляча, и я думаю: «Вот подъеду сейчас, сдам и вернусь». И навстречу мне появляется один человек, какой-то такой, бродяжного типа, в кирзовых сапогах больших, разбитых, накинул свою какую-то то ли шубу, то ли шинель на плечо, идет навстречу. Нормально подошел, я тоже кивнул головой, проезжаю мимо. Он мне говорит: «А ну остановись. Я жрать хочу, ты понимаешь? Я тут один, там у тебя в мешке что есть? Давай немножко оставь мне». Я бы с удовольствием ему все отдал бы, если бы это были не деньги. Представляете ситуацию? Я молча пытаюсь побыстрее… Он говорит: «Постой, постой, ну что тебе… ну, слушай, я голодный человек, ну что, ты не можешь что-нибудь дать мне? Что же у тебя в мешке-то, ты же что-то везешь, в конце концов?» Я не могу ему даже объяснить, ответить, потому что, вы сами понимаете, это деньги… Никому ни одной копейки я не имею права отдать.
И я молча ухожу. Тогда он разозлился и стал кидать в меня камнями, гнался за мной и проклинал самым страшным образом: «Вот ты когда-нибудь тоже так будешь бродить, и подохнешь с голоду, и чтоб тебе ничего впереди не светило! Какой же ты страшный человек! Кто тебя родил?». В общем, все, что можно было услышать в этом плане страшного, он мне наговорил, бил камнями. Он оказался больным человеком, скоро стал задыхаться, уже не может идти. Я дальше уехал. И я понял, что это был дезертир, тогда уже появились дезертиры. А дезертир, он нигде не может быть приемлемым, он нигде не может появиться открыто. Он должен скитаться, прятаться. И, видимо, один из них вот так встретился мне на пути. В тот вечер я думал, возвращаться мне назад или нет, а вдруг он снова встретится мне по дороге? И самое странное и интересное для меня – я не мог себе объяснить, я чувствовал свою вину, какой-то укор внутренний, что я не мог откликнуться на его зов, что я не мог ему ничего сказать, что я поступил таким образом. Это меня очень мучило.
И когда уже, будучи студентом, а я учился в сельскохозяйственном институте, я чувствовал подчас, что мне надо что-то сказать, потому что я видел такие события, я пережил такие времена, что я должен об этом написать. И вот первая моя вещь, она называется «Лицом к лицу», еще до «Джамили», это как раз та повесть, где я пытался исповедаться. Там я изобразил судьбу дезертира. Дезертир и история, дезертир и время, дезертир и его близкие люди. Насколько это несопоставимо, насколько это страшно кончается и не только для него, а и для его самых близких людей.
Тогда я писал это, можно сказать, интуитивно, почти стихийно. Линия моей жизни так начиналась, с этого начинался мой творческий путь. И потом уже, постепенно, я вслед за этой вещью написал тоже новые произведения, но они все так или иначе были связаны с эпохой войны. «Лицом к лицу» - это начало, потом появилась «Джамиля», потом «Материнское поле», потом «Прощай, Гульсары», потом другие вещи. Это все оттуда. Очаг образов, сюжетов, мыслей - все оттуда начиналось.
- Вы верите в такое выражение, что когда человек чего-то желает, вся вселенная ему помогает? Спасибо.
- Вы знаете, вселенная – это огромный, необъятный мир. И мы своими мыслями можем только охватить его. Поэтому, может быть, в чем-то происходит какое-то совпадение: вы что-то желаете, вы к чему-то стремитесь, что-то вас зовет на те или иные подвиги или поступки. Наверное, это бывает тогда, когда ваша устремленность исходит из каких-то благих, великих намерений. Может быть, тогда действительно вселенная будет сопутствовать своими какими-то знаками для вас.
Человек - он тоже частичка вселенной, поэтому вполне возможно такое взаимодействие, сочетание. Но все это пока что отвлеченно, теоретически, абстрактно можно рассуждать, а доподлинно вы можете это найти в литературе, прежде всего, в художественной литературе, в поэзии. Чем силен поэт? Он видит то, что в быту, в своей суете, мы не всегда узреваем, а поэт это видит. Великие поэты тем и велики, тем они и нужны, тем они дороги, что они могут вселенную подчас в одном слове заключить.
- Правда ли, что благодаря Вам на встречах в НАТО зазвучал синхронный перевод на русском языке?
- Да, действительно. Послы всех стран НАТО часто собираются, в месяц два-три раза, в огромном зале. Нас там человек 40-50, начиная от американского посла и кончая нами. У нас общие темы, суждения, общая программа. И я обратил внимание, что только на двух языках там ведется разговор - на английском и французском, - тогда как страны СНГ, Россия, российский посол обычно выступает на русском языке, но это отдельный случай, его надо переводить. Но он, даже понимая по-английски, все равно будет выступать на своем языке. И тогда я, раздумывая о том, чтобы найти баланс, чтобы мы тоже были полноценно включены в процесс взаимообмена мнениями, я обратился к генеральному секретарю НАТО и как посол, и как писатель, они меня знают, я небольшую записку написал. Я говорю: «Если вы хотите действительно высокие цели, благородные цели осуществлять, то надо, чтобы русский язык, которым владеет вся евразийская часть планеты, был одним из рабочих языков, постоянно действующим». Поэтому среди кабин, где сидят переводчики, появилась кабина русских переводчиков, там их два-три человека, потому что надо переводить все мгновенно, синхронно в течение двух-трех часов.
И мы пытаемся, несмотря на то, что многие думают, что мы потеряли цену самим себе, доказать, что мы свой язык ставим в один ряд с другими языками, чтобы он был действующим языком в повседневной жизни.
- У меня вопрос по Вашему творчеству. В Вашем романе «Плаха», тогда мы еще все жили в стране СССР, и, как известно, у нас тогда, в СССР, ничего не было, ни секса, ни блата, ни наркомании, о наркомании Вы заговорили первым. Как мы сейчас видим, к сожалению, Вы оказались провидцем. А сейчас в наше время в странах СНГ все более актуальными становятся Ваши мысли о самоубийственной войне: террор, антитеррор. Не страшновато ли Вам такое долгое время выступать в роли Кассандры?
- Что происходит в современном мире: духовные ценности, нравственные ценности подвергаются каким-то изменениям, какие-то эволюции происходят. Но то, что сейчас происходит, - подчас не находишь этому объяснения. Иногда мне так думается: поскольку мы как-то самоограничивали себя, конечно, и идеология здесь имеет место, но все-таки определенные нормы советского образа жизни существовали, да? И, может быть, в этом было много и положительного, а может быть, это было и обеднением своей живой жизни насущной. Когда наступили новые времена, когда пришла новая эпоха, когда все это в самосознании нашем начало действовать, мы сейчас испытываем некое шоковое состояние, особенно наше поколение. Вы, молодежь, для вас существует так называемая массовая культура, она идет с Запада, и для этого существуют все глобальные коммуникационные средства, все технологии.
Так вот, все это для нас оказалось неожиданностью, мы оказались неподготовленными, не в негативном смысле этого слова, мы просто сторонились таких сторон бытия человеческого. А сейчас все это обнажилось: стоит выйти на улицу, и, начиная с реклам и прочего, вы это увидите. Наверное, надо пережить это время, особенно молодежи это касается - относитесь к этому трезво, не поддавайтесь на всякие призывы и особенно на влияние массовой культуры. Все это, наверное, должно иметь место, но в определенной норме нравственности, ценности, которую наше общество, наше время, ХХ век, формировало.
Это раз. А во-вторых, ищите новые ценности, новые открытия совершайте. Я пока что, например, не вижу этого. В литературе много сейчас об этом пишут, говорят. Да, есть очень яркие, талантливые такие, но открытий таких, чтоб я прочел и сказал: «Да, я сегодня вступил в какой-то новый мир или в тот же мир, но для меня его сегодня обнажили, открыли», - такого не происходит. Так вот, молодежь должна, это ваш долг, ваша функция, свои ценности вырабатывать, не забывая традиции. Почему, откуда традиции? Традиции – это то, что до вас уже прошло испытание, это опыт, его надо вбирать в себя, исследовать.
Я хочу подчеркнуть, что в моем творчестве есть такие особые, мне присущие, свойства. Во-первых, я очень близок к мифологизации. Но я не беру это в том виде, как есть, в том, древнейшем виде, а пытаюсь это воплотить, синтезировать в новом контексте современной жизни. В каждом моем произведении это есть. Я как бы ссылаюсь на миф, на легенду, на сказание.
И второе, что мне присуще, – это моя близость к нашим младшим братьям живым: птицы, звери, животные. Поскольку наша жизнь, она же тоже совместно протекает. «Прощай, Гульсары» вы, наверное, читали, там два героя – человек и его конь. Во всяком случае, в мировой литературе такой постановки не знаю. А в «Плахе» - там есть волчья семья, с этого начинается действие. Потом, естественно, людские судьбы, но завершение романа, финал опять сводится к этим. Они начинали, и они завершают. Волки проходят совместно, параллельно, в одно время с этими людьми, с этими судьбами.
Кстати, однажды иду по улице Горького, ныне Тверская, и навстречу идет одна женщина, русская женщина, она еще издали мне кивнула головой и говорит: «Здравствуйте, здравствуйте». Я говорю: «Здравствуйте», подхожу, думаю, кто-нибудь из моих знакомых. Совсем незнакомая женщина. Она подходит еще ближе, я думаю сказать ей: «Здравствуйте, мы с вами знакомы или нет?». А она подходит молча, смотрит мне в глаза и говорит: «Я Акбара». Для меня это было неожиданностью, мне хотелось сказать: «Вы что, сравниваете себя с этой волчицей?», но я не успел сказать, не успел спросить. Она настолько серьезно была настроена, сказав эти слова, она прошла молча дальше. Я так и не узнал, почему она Акбара. Наверное, что-то такое было, что она себя идентифицирует с волчицей. Наверное, в судьбе что-нибудь, какие-то трудности, тяготы, какие-то события, какие-то муки заставили ее это сказать. И вот автора увидела и сказала такую фразу. Я никогда этого не забуду.
Тогда литература воздействовала так, так воспринималась. А сейчас я не знаю, может ли эта женщина сказать, что я кто-то там из «Голубого сала», или еще что-нибудь подобное.
-У меня был к Вам вопрос как к человеку, про которого во всех энциклопедиях написано через запятую «писатель, общественный деятель» и список советов, академий, организаций, форумов… Этот список составляет чуть ли не страницу, а то и больше по объему, чем список произведений. Создается впечатление, что всякий состоявшийся писатель сейчас испытывает некоторое искушение стать общественным деятелем. То есть общество ему в качестве бонуса предлагает заняться некоей чиновной работой. Не суть важно, какой … И вопрос заключался в следующем. Как для себя Вы решаете эту проблему, когда человек вместо того, чтобы приставлять буковки к буковкам, занимается некоей чиновной деятельностью, как бы представляя себя писателем в том случае, когда он уже чиновник? Может быть, хороший чиновник…
- Вы правы в принципе: каждый должен заниматься своим делом. Если ты художник – пиши свои картины, складывай свои скульптуры и так далее, композитор свою музыку должен сочинять. Но писатели - они другого свойства люди. Конечно, если бы складывалась жизнь в обществе, не только личная, но в обществе таким образом, что человек может себе позволить вот так отрешенно от повседневной жизни, от того, что происходит сейчас, здесь, заниматься только своим творчеством, это было бы хорошо, это желательно. С одной стороны. Но, с другой стороны, пишущий человек, он должен вращаться в самой гуще жизни, в обществе. И если прежде мы могли себе позволить жить, существовать за счет своего творчества, - другие какие-то были условия, то сейчас этого нет, сейчас каждый человек ответственен сам за себя, каждый должен трудиться и через свое деяние, через свои действия включаться в общественную жизнь, и чтобы у него протекала более-менее нормально его личная жизнь и его личный быт, его и его семьи.
Я не скажу, что мой путь последних лет наиболее оптимальный. Но переход нашего ХХ века завершался как раз в период перестройки, настолько это бурно протекало, настолько захватывающе. Это же была по-своему революция, понимаете? Слава богу, что это была революция в пределах разума, а не гражданских войн.
Тогда я почувствовал, - это было время после «Плахи», - настолько активно, настолько захватывающе развивалась тогдашняя история, жизнь повседневная, я почувствовал: или я должен только общественной деятельностью заниматься, или я где-то должен найти возможность сочетать и то, и другое.
И с Горбачевым у меня был совет, с Михаилом Сергеевичем, на эту тему, и мы пришли к выводу, он говорит: «Надо на дипломатическом посту побывать, исполнять службу и попытаться что-то написать». Это искренний такой был совет, и я его воспринял. И таким образом оказался на дипломатической службе. С тех пор пытаюсь сочетать. Правда, надо честно и откровенно сказать, 90 процентов времени все-таки уходит на службу.
Потом, сейчас существует огромное количество всяких международных функций, действий, организаций, и во все это мы вовлечены. Вот Вы сказали, что в списке бесчисленное множество моих членств, академий, званий и так далее. Все это верно. Но я в то же время хотел бы вам сказать, что если вы читали мой новый роман, вы, наверное, почувствовали, что я сейчас вышел на новый путь. То есть, выход из своей обычной, уже привычной среды в европейском пространстве. Писатель должен пытаться, это мое убеждение, знать, выражать не только то, что для него родная его среда, но и гораздо больше, через слово можно говорить вообще о человечестве как таковом… Слово – наш инструмент, механизм.
В Европе мне все-таки многое открылось, расширился горизонт мировосприятия. Многие меня ругают, называют роман космополитическим. Я тоже теперь космополит. В прежние времена космополитов гнали аж в Сибирь и дальше, слава богу, сейчас этого нет.
Есть и свои обретения, и свои потери. Идеальной жизни, как вы понимаете, быть не может. То есть надо все через себя, через свой опыт выстрадать свою эпоху, чтобы о ней что-то сказать, о людях моих. А если я заточусь куда-нибудь в уединение, ну это все-таки будет не то, неполноценное.
- У меня к Вам вопрос как к мэтру литературы. Например, космополит Владимир Набоков отрицательно относился к литературоведческим работам, касавшимся его творчества. Как Вы относитесь к литературоведам, например, к Гачеву, или все же для Вас решающим остается мнение Вашего читателя?
- И то, и другое надо совмещать. Литературоведы – это нужные люди, анализирующие, советующие, открывающие истину. Чтобы не было какой-то, допустим, самоуверенности, что я написал шедевр и все. Нет, тебе литературоведы откроют и скажут, насколько это так. Поэтому я нормально, положительно отношусь к литературоведческим работам. А Гачев – это очень умный человек, оригинально мыслящий человек. Он между Западом и Востоком стоит, и то, и другое совмещает и делает свои открытия.
- Вы сказали, что слово есть суть человеческого бытия. А как Вы относитесь к такой фразе «вдохновение не продается, но рукопись можно продать»?
- Смотря как это излагать, «вдохновение не продается». Что значит «вдохновение не продается» в наше время, в эпоху рыночной экономики? Вы думаете, не продается? По-моему, на каждом шагу это может происходить. Наверное, это слишком категорически сказано, я так думаю. Хотелось бы, чтобы этого не было, это ясно, но оно имеет место.
- Расскажите, пожалуйста, почему Вы пишете на русском языке, потом переводят на киргизский, как я знаю. Какие русские писатели стали для Вас родными?
- Это вопрос очень существенный лично для меня. Я двуязычный писатель, так сложилась судьба, так сложилась история, когда мы вдруг все вместе, тер
|