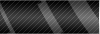Привезенный недавно в Москву «Макбет» литовского режиссера позволил понять, как меняются порой во времени смысл и звучание великих спектаклей. Этой осенью на фестивале «Сезон Станиславского» я посмотрел «Макбета» Эймунтаса Някрошюса в третий или четвертый раз. Впервые я увидел его в 1999 году. В том «Макбете» господствовал образ жуткого сна, когда человека подхватывает и влечет к катастрофе некая страшная сила, противостоять которой бессмысленно. Человек вдруг теряет всякую способность к действию, тело сновидца слабеет, он, содрогаясь от смутного ужаса, отдается увлекающему его вихрю — и просыпается весь в поту и с бешено бьющимся сердцем. Это ощущение, знакомое каждому и переданное в метафорах литовского спектакля с пугающей физической конкретностью, отражает, конечно, не один только опыт тягостных сновидений, но прежде всего — коренную ситуацию современного человека, вовлеченного в хаос движения исторических сил и неспособного не только управлять этим хаосом, но и понимать скрытую в нем логику, если она вообще существует. В «страшных снах» Някрошюса, которые он словно выкликает из своего подсознания, тем самым спасая себя от них, были овеществлены наши общие тайные страхи, наше собственное душевное подполье. Черная магия литовского «Макбета» неотвратимо околдовывала, брала в свой зловещий и прельстительный плен. Она была той же природы, что и темное колдовство «вещих сестер».

Сценическая материя спектакля, его атмосфера, его смысл, казалось, отчетливо запечатлелись в моей памяти — от начала до мощного финального Miserere nobis, в котором объединялись все: победители и побежденные, живые и мертвецы, люди и инфернальные существа. «Мизерере» было не мольбой о спасении, а горьким плачем безнадежности — молиться тут некому. В небесах литовского «Макбета» — только серые камни, которые с грохотом валятся по жестяным желобам, покрывая собою землю.
Так я привык воспринимать философию этого спектакля. Но на сей раз что-то существенное изменилось — то ли в самом спектакле, то ли в моем его восприятии. В самом конце, словно в ответ на общую молитву, в глубине сцены появляется, стремительно разгораясь, прорезывая пространство, луч света. Его-то явление и несет с собой то, что может быть названо последней истиной спектакля. Вряд ли это знак прощения — обитатели Макбетова мира его не заслужили. Скорее предвестие скорого суда, неотвратимого и грозного. И, что, может быть, всего важнее, свидетельство о том, что в небе трагедии — не одни камни.
Явлением таинственного горнего света кончался спектакль и прежде. Образ не изменился, изменилось его место в системе идей спектакля. К этой точке, точке катарсиса, теперь стали стягиваться все нити литовского «Макбета».
На спектакле Някрошюса я подумал о том, сколь близки между собой иногда оказываются художники, казалось бы, очень далекие друг от друга, как сходен бывает ход их экзистенциальных идей. Речь идет, само собой, не о влияниях и подражании, но об общности ответов на главные вопросы бытия. Понятно, что трагедии Шекспира — территория, на которой эти вопросы не могут не ставиться, и ответы бывают порой радикально противоположными, даже когда предметом интерпретации становится одна и та же пьеса. Тем важнее случаи непредумышленного сближения, диктуемые единством духовных нужд людей одной эпохи.
Я вспоминал о «Гамлете», поставленном Питером Бруком в 2000 году.
Первые слова трагедии о принце датском — «Кто здесь?» — у Шекспира, как известно, произносит стражник Бернардо. В бруковском «Гамлете» первая строка — не традиционный оклик часового, но одинокий крик, посланный в пространство, вопрошание космоса, не рассчитанное на ответ. Вопрос, вложенный режиссером в уста Горацио, был послан в бесконечность Вселенной и одновременно обращен к чему-то, что невидимо находится совсем рядом, «здесь». Ученый друг Гамлета появлялся на сцене, робко озираясь, напряженно вглядываясь в даль, самой своей кожей ощущая растворенное в дрожащем сумрачном воздухе присутствие незримого. 
В ответ на его «Кто здесь?» за сценой слышался гудящий протяжный звук. Он возвещал о приходе гостя из иных миров. Призрак, крепко сложенный человек в длинной шинели, тяжело ступая, шел прямо на Горацио. Между ними образовывалось какое-то сгущенное пространство, невидимая воздушная подушка, заставляющая Гамлетова друга пятиться, вытеснявшая, выталкивавшая его со сцены. Отступая, Горацио отчаянно кричал: «Говори!» В ответ не было слышно ни слова. Дух не молчал высокомерно в ответ на смятенные вопросы Горацио. Он пытался что-то сказать. Его губы шевелились. Но речь была беззвучна. Может быть, он был не в силах говорить, а может быть, ему запрещено было открывать свою тайну, да и не всякому дано ей внять, для этого, вероятно, надо быть Гамлетом. Таким было начало «Гамлета» в парижском театре «Буфф дю Нор».
В конце спектакля рядом с мертвым принцем на подмостках лежали все умершие — не только те, кому следовало лежать там по тексту пьесы, но и все прочие: Полоний, Офелия и даже Гильденстерн с Розенкранцем. Финал с Фортинбрасом в спектакле Брука отсутствовал. Миссию норвежского принца, когда-то истолкованного Гордоном Крэгом как символ очистительного ангельского начала, у Брука исполнял ослепительный свет, который рождался в глубине зрительного зала, медленно заливая подмостки. Снова, как в начале, слышался странный тонкий пронзительный звук. Мертвые один за другим вставали навстречу потоку света. Среди них, тревожно вглядываясь в пустоту, стоял Горацио. Он снова вопрошал — вселенную, себя, нас: «Кто здесь?» Он всеми силами души вслушивался в пространство, гулкое от присутствия неведомого. Ответом ему было молчание, молчание мира — и молчание оцепеневшего зрительного зала.
«Дальнейшее — молчанье». Однако молчание еще не означает пустоты, абсолютного отсутствия. Боги, правящие миром трагедии, способны быть грозными и мстительными. Их воля может быть неисповедима. Но небеса трагедии не могут быть пусты. Они светятся высшим смыслом, даже когда этот смысл скрыт от людей. Завершавший трагическое действие двух шекспировских спектаклей образ трансцендентного света, очистительного луча, взрезающего вселенскую тьму, возник у двух режиссеров, принадлежащих разным поколениям, но живущих в одно время. Это не простое совпадение.
В мире, лишенном высшего замысла, в мире обезбоженном трагедия задыхается. Она в муках умирает от асфиксии или превращается сначала в угрюмый абсурдистский гротеск, а затем в легкокрылую постмодернистскую трагикомедию, которая прекрасно себя чувствует во вселенской пустоте.
Можно сказать, что Питер Брук и Эймунтас Някрошюс поставили трагедии Шекспира, чтобы всем нам было чем дышать.
|