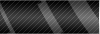О КГБ:
Я встречался со многими работниками КГБ, а некоторые сказали мне, что они были всегдашними моими читателями. Когда я написал книгу о своем отравлении, была конференция "КГБ: вчера, сегодня, завтра". Там были журналисты, иностранцы, диссиденты и КГБэшники. Потом у нас был общий банкет, и ко мне выстроилась очередь работников КГБ за автографами.
Мне давным-давно дали адрес и телефон сотрудника КГБ, который меня отравил. И у меня даже возникло желание позвонить и что-нибудь сказать ему по телефону. Но потом я махнул рукой, подумал: "Пусть живет" - и не стал этого делать.
Я недавно ехал на так называемом "леваке" по Москве. Он вез меня какими-то переулками, мы объезжали все пробки. Он говорит: "Видите, как я хорошо Москву знаю. Знаете, почему? Потому что я в КГБ служил, за диссидентами ездил". "Да?! – сказал я, - Может, и за мной ездили?" "А как ваша фамилия?" - спросил он. Я ему сказал. "Ездил, - признался он. А потом сказал: - Но вы знаете, вы на нас не обижайтесь. Мы что, мы маленькие люди. Это Брежнев, Андропов – они нам приказывали, а мы исполняли приказания. Сейчас совсем другое время, сейчас демократия… Эх, дали бы мне пулемет, сейчас бы всех этих демократов!.."
Однажды в КГБ мне дали дело моего отца, и там фигурировал человек по фамилии Заднев, который написал на него донос. Моего отца сначала готовили к смертной казни, потом смилостивились и дали только 5 лет. Мне дали дело, а потом говорят: "Вы знаете, лучше не упоминать его имя, потому что потомкам будет неприятно". Я говорю: "А пускай человек знает, что он ответственен за свою фамилию. Если он делает какие-то мерзости, то пусть потомкам будет за него стыдно". Поэтому, я думаю, надо называть имена.
О своей новой книге – "Автопортрет. Роман моей жизни":
Я никому не пытался отмстить. Но когда я пишу – тогда я пишу. Как мне писать: "N", "X", или "Y" сказал то-то? Мне как-то это не интересно. Эти люди были в моей жизни. Я ни на кого напраслину не возвожу. Меня спрашивают: простил или не простил. Я не прощаю, потому что для того чтобы простить, надо чтобы кто-то попросил прощения. Если попросит, и я подумаю, что искренне, - я прощу.
О писателе Юрии Трифонове:
Трифонов, был очень осторожный, иногда даже слишком. И, кстати, я не написал в своей книге о том, что когда Трифонов вернулся из-за границы, где узнал, что в Германии мой роман о Чонкине не пользовался большим успехом, он сказал на отчете в секретариате Союза писателей: "Диссидентская литература успехом не пользуется. Вот Войнович…" Я тогда очень на него обиделся, потому что мы приятельствовали. Я, кроме того, не думал, что он считает мою литературу диссидентской, потому что диссидентская литература – это какие-то памфлеты, еще что-то, а все-таки это был роман, о котором он говорил очень высокие слова.
О романе с женой Камила Икрамова Ириной, ставшей второй женой Войновича:
Это сюжет о любви. Я даже хотел написать роман, потому что человек, вступающий в такие отношения, испытывает очень сложные чувства: это любовь к женщине и ощущение жуткого греха, что это твой друг; ты испытываешь чувство вины, чувство огромной любви к нему и в то же время чувство ненависти; чувство вины перед бывшей женой. Я хотел написать этот роман, но разные события моей жизни отвлекли меня от него. А сейчас я уже не смогу, поэтому решил хотя бы в своей автобиографии ввести эту струю.
Об актерском опыте в фильме Отара Иоселиани "Сады осенью":
Иоселиани меня не убеждал – он как предложил, я сразу полетел, не зная, что я буду играть. Два режиссера приглашали меня на серьезные роли в кино. Однажды в 60-х годах я сидел в редакции журнала "Новый мир", вдруг входит режиссер Марлен Хуциев и говорит: "Вот, кого я буду снимать в роли Пушкина!" Мне, конечно, было лестно, я бы очень хотел. Потом как-то мне Владимир Наумович Наумов говорит: "Слушай, ты не хотел бы у меня сыграть роль бандита?" Я говорю: "Хочу, конечно". А в результате я сыграл французского бюрократа. Говорю только одно слово: "этажер" - меня долго натаскивали, как его надо сказать. И теперь я говорю, что играю эту роль по-французски.
О современной литературе:
Может, потому, что я уже такого возраста, когда трудно чем-то очаровываться, мне бывают приятны какие-то книги, например книга Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом", еще что-то, но у меня нет чувства колоссального открытия, какое часто возникало во времена моей литературной молодости и не только литературной.
О занятиях живописью:
Когда я только начал рисовать (это было лет 12 назад), мне предложили сделать выставку. Я долго не решался, но потом решился. И смотрю: раскупили всю эту выставку. Мне тогда платили очень маленькие гонорары – на Западе я еще получал что-то, а здесь платили такой мизер, на который жить было невозможно – а тут появился дополнительный заработок. Я продал очень много картин, у меня осталось мало, и я решил больше не продавать. Я не делал копии, думал, что это не совсем хорошо. Я повторил одну картину. Один человек из Израиля купил ее у меня. Когда у меня была выставка в "Русском музее", я повесил эту картину там и потом в книге посетителей увидел его отзывы о выставке. Он написал все хорошо, но мне стало ужасно неудобно. Мне кажется, надо продавать то, что в единственном экземпляре.
О жизни в Германии:
Я очень скучал по Москве. Сидел какое-то время здесь. Потом начинал скучать по Германии. И в Мюнхене с удовольствием ходил по чистеньким улицам. Мне нравилось, что ничего не хлюпает, даже если дождь прошел: приходишь домой – ботинки чистые, на машине проехал – машина чистая. Этот пресловутый немецкий порядок: когда живешь какое-то время в нашем беспорядке, потом приезжаешь туда – отдыхаешь, но потом он начинает надоедать.
О своем мировоззрении:
В глубине души я романтик, но романтика в себе всегда давлю, потому что вижу несоответствие возвышенного слога с нашей действительностью. Романтика – это такая возвышенная ложь, поэтому я к ней отношусь с иронией. Я стараюсь быть реалистом. Я считаю, что писатель в какой-то степени должен быть циником. В то же время циников я не люблю, но предпочитаю романтикам, потому что циник, если ему будет надо, зарежет, а если не надо – обойдется; а романтик не обойдется.