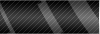Гастарбайтеры с Востока постепенно заполняют пространство сцены,
сделанное почти полной копией Георгиевского зала Кремля.В последнюю
минуту, уже на глазах собравшихся, парни в трениках и черных шапочках
ползут на корточках к столу, чтобы водрузить вазы с цветами. Гастарбайтеры с Востока постепенно заполняют пространство сцены,
сделанное почти полной копией Георгиевского зала Кремля.В последнюю
минуту, уже на глазах собравшихся, парни в трениках и черных шапочках
ползут на корточках к столу, чтобы водрузить вазы с цветами.
В атмосфере этого "царственного" бардака начинается опера "Золотой
петушок", поставленная Кириллом Серебренниковым в Большом театре.
То, что актуализация оперы будет решительной, было ясно сразу. Таков
режиссерский принцип Серебренникова. Но то, что Римский-Корсаков
окажется столь подвластным этому принципу, - было далеко не очевидно.
Написанная после революции 1905 года, опера воспринималась всеми как
страшная злободневная сатира.Композитор, веривший в неизменность русской
идеи , внезапно прозрел и впервые осознал конец сказочной древней Руси.
Желчный и ядовитый музыкальный язык этой оперы, пронизанной изысканной
музыкальной рефлексией, был воспринят как новаторский и опасный, и хотя
оперу на пушкинский сюжет запретить не решились, но долго томили ее,
чтобы потом обезопасить стилистикой детской сказки. С тех пор ее
сатирическая сила угасала, превратившись к исходу советской власти в
милый детский утренник.
Серебренников решительно переместил ее в разряд "взрослых"
спектаклей. Но по первому акту, статично-однообразному, этого сказать
нельзя. Откликнувшись на ожидания, он выстроил в нем картину
правительственного приема со всем его антуражем - лощеными секьюрити,
гербовой символикой, либеральным наездом Звездочета (Джефф Мартин),
требующего конституционных гарантий и законности, Ключницей Амфелой а ля
губернаторша (Татьяна Ерастова), ублажающей власть, и разгулом
"народного" подобострастия.
Великолепный бас Владимир Моторин, впервые, кажется, сбривший бороду и
резко помолодевший, поет о нестерпимой тяжести власти. Лощеный сын его
Гвидон (Борис Рудак) с лэптопом в руках - все это не больше чем сказка
для взрослых.
Настоящая "взрослость" резко проступает во втором, волшебном, акте.
Облезлые, пошарпанные стены - такие увидишь в сталинских санаториях,
подернутых патиной времени - тьма как трассирующими пулями прореженная
лучами света, бьющими сквозь щели, стук молотков, забивающих доски в
гробах, наконец, сами солдатские гробы как главный символ времени.
Бесславная Додонова война оканчивается в Шемаханском загробном мире, где
гробы превращаются в зеркала, вдоль которых дефилирует царица, и где
все вожделеют ее, стыдливо уткнувшись в стену.
Излюбленная Серебренниковым метафора русского мира как
потустороннего, гоголевского царства упырей и мертвяков обрастает здесь
еще одним - некрофильским - мотивом: последняя любовь Додона рождается
буквально на гробах. Два гроба на авансцене - это его, Додона, сыновья.
Именно здесь - в присутствии и полном забвении смерти - он отдается
любви. Шемаханская царица (Венера Гимадиева), явленная во всем гламурном
блеске суперзвезды и мастерстве современного коучера, владеющего всеми
психологическими техниками раскрепощения, овладевает его воображением.
Средства политического театра вновь заостряются к третьему акту
Додонового триумфа и смерти. Где-то на задворках зала по-прежнему
трудятся гастарбайтеры, подданные давно переоделись в серые сарафаны и
майки с надписью "Ваши мы. Душа и тело". Перед трибуной Додона с Царицей
шествует парад ликующих демонстрантов: Микки-Маусы, дети с шариками и
бесконечная солдатня, огромная ракета точно фаллический символ власти. И
чтобы стало совсем все понятно, поверх сцены побежит строка, повторяя
за поющим и славословящим "народом": "Верные твои холопы, лобызая царски
стопы, рады мы тебе служить, нашей дуростью смешить".
Еще миг, и умрет требующий законности Звездочет, убитый охранниками, и
Шемаханская царица, взяв за руку мальчика-Петушка и пропев свое
проклятие "дурацкому народу", удалится, и умрет сам Додон, тихо присев
на трибуне. Сказка ложь, да в ней намек, и его Кирилл Серебренников
осуществил в полном согласии с волей Римского-Корсакова и дирижера
Василия Синайского.
|