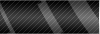У моей знакомой преподавательницы из Литературного института есть две проблемы со студентами-писателями. Во-первых, все они - девушки. Мужчины в литературу не идут - она не кормит. Во-вторых, утрачена возможность опереться на литературную традицию. Молодая аудитория просто не считывает традиционные культурные коды. Постойте, но разве это нам впервые такой снег на голову? Забывали все - даже Библию. Но литература прорастала, как подснежники из зимнего льда. Хотите узнать, как? Давайте в связи с гендерным кризисом в Литинституте забудем про мужчин, а вспомним двух дам - Веру Панову и Ольгу Берггольц, которым в этом году как раз исполнилось 105 и 100 лет. У моей знакомой преподавательницы из Литературного института есть две проблемы со студентами-писателями. Во-первых, все они - девушки. Мужчины в литературу не идут - она не кормит. Во-вторых, утрачена возможность опереться на литературную традицию. Молодая аудитория просто не считывает традиционные культурные коды. Постойте, но разве это нам впервые такой снег на голову? Забывали все - даже Библию. Но литература прорастала, как подснежники из зимнего льда. Хотите узнать, как? Давайте в связи с гендерным кризисом в Литинституте забудем про мужчин, а вспомним двух дам - Веру Панову и Ольгу Берггольц, которым в этом году как раз исполнилось 105 и 100 лет.Недавно петербургские издательства подарили нам две замечательные книги - сборник «Ольга. Запретный дневник», вышедший под редакцией Натальи Соколовской в «Азбуке-классике», и добиравшийся до нас тридцать лет полный вариант автобиографии Веры Пановой «Мое и только мое», напечатанный в издательстве журнала «Звезда». Почитайте эти книги - и знакомые по советским школьным хрестоматиям имена предстанут перед вами в абсолютно новом свете. Речь в обоих случаях идет о потрясающей духовной траектории. Люди, чья молодость пришлась на период тотального забвения христианских ценностей и связанной с ними культуры, сумели воскресить эти ценности внутри себя - сами, без благодетельных старцев, явлений и откровений. Роль весьма сомнительных ныне старцев сыграла для двух писательниц литература, сохранившая матрицу христианского взгляда на мир. Обе их биографии - это отнюдь не рассказы о святых отроковицах: до зрелого возраста и Панова, и Берггольц смотрели на происходящий вокруг них духовный разор сквозь пальцы - так же, как большинство из нас смотрят на нынешний. Они успели даже попользоваться предоставляемыми свободами и удобствами. Тем более чудесным выглядит их возвращение к себе самим - по-детски честным, к себе самим - подлинным. А ведь литература - это и есть путь к себе, который не заменят никакие туристические вояжи и круизы. Ростовчанка Панова родилась в 1905 году, на пять лет раньше петербуржки Берггольц, но эта разница, хоть и небольшая, позволила ей глотнуть другого воздуха - до 1918 года она успела поучиться в двух классах старой гимназии. Были еще у маленькой Верочки верующая няня, православные молитвы и играющая на фортепьяно бабушка. У Берггольц была школа, на двери которой было написано «117-я, трудовая» и первое стихотворение под названием «Ленин». Зато у нее был Ленинград и лекции в Государственном институте истории искусств, которые читали Эйхенбаум и Тынянов. Дух дышит, где хочет. Для писателя необходимо, чтобы детство его было если не счастливым, то хотя бы значительным. Не собранные в раннем возрасте впечатления и непрочитанные книги - как не сделанные в детстве прививки. Но вот проходит детство и наступает голодная, но, кажется, такая счастливая юность. Теперь это трудно понять, но городские жители двадцатых годов чувствовали себя очень свободными людьми. Отменены вековые сословные ограничения, браки и разводы совершаются в течение нескольких часов. Сброшена с парохода современности старая культура, церковь больше ничего тебе не навязывает. Аборты - самые доступные и дешевые в Европе; профкомы и месткомы еще пока реально защищают работников от произвола начальства, ссылаясь на то, что власть в стране все-таки пролетарская. Работу можно выбирать. Семидневная рабочая неделя и аресты за опоздание на работу - еще впереди, в тридцатых. Чем-то то время напоминало недавние девяностые. Это была свобода во грехе - за разрешенный «гражданский брак» и рост потребления расплатились политическими правами, возможностью выбора. И очень скоро товарищ Сталин попросит назад и все остальные вольности. В 1936 году запретят аборты, в 1947 году - браки с иностранцами. И, как это любят делать в России, Сталин впоследствии запретит даже вспоминать, что когда-то что-то было по-другому и что он чем-то этому народу обязан. В1946 году, похоронив троих детей и даже не зная места упокоения первого мужа, репрессированного в конце тридцатых, Берггольц напишет о Сталине такие строки (естественно, не для тогдашней печати): Уже готов позорить нашу славу, уже готов на мертвых клеветать герой прописки и стандартных справок… Но на асфальте нашем - след кровавый, не вышаркать его, не затоптать… РИА Новости. А. Лесс | Купить иллюстрацию Писательница Вера Федоровна Панова.
Тогда, в сороковые, прописка и справки были очень важны. Но вернемся в двадцатые и ранние тридцатые годы. И Панова, и Берггольц как будто в параллель выходят замуж, беременеют, рожают, разводятся, опять беременеют. Таков стиль эпохи. Интересно, как легко, буднично пишет об этих событиях своей жизни Вера Панова в своей автобиографии: «Моя прежняя детская вера вдруг пошатнулась, я вдруг не полюбила ходить в церковь, церковные службы стали казаться мне скучными, церковные предания неправдоподобными, невозможными… Осенью мы вернулись в Ростов, я развелась с Арсением Старосельским и стала женой Бориса Вахтина. Дочь к нему еще в Ейске привыкла и привязалась, так что с этой стороны все обстояло хорошо. Арсений, в сущности, радовался такому положению вещей, так как он тогда собирался жениться на другой. В общем, не происходило никаких драм, ничьи сердца не были разбиты, ничьи жизни не были искалечены, а я была счастлива своей любовью к Борису». За это счастье пришлось заплатить страшную цену: в 1935 году бывшего журналиста «Комсомольской правды» Бориса Вахтина арестовали по обвинению в троцкизме. Он погибнет в лагере. Вера не успела даже привыкнуть к заезжавшей к ним по утрам редакционной машине, проведенному в квартиру телефону и «сверх-ультра-экстрараспределителю» (ее выражение), к которому прикрепили семью особо ценного газетного сотрудника. Пройдет почти сорок лет, и накануне своей смерти в 1973 году Панова напишет о покойном муже, газетном богоборце по должности: «Я одна вырастила наших сыновей, и только Оттуда ты можешь взглянуть на наших внуков. Я хочу, я должна верить, что ты их видишь, иначе все это было бы слишком нелепо, наша жизнь. Ты видишь нас всех, не правда ли, мой мученик? Ты помолишься, не правда ли, чтобы Господь скорее дал нам свидеться Там? Без колючей проволоки, глаза в глаза. Однажды мне снилось, что я куда-то спускаюсь по узкой деревянной лестнице, меня провожает Боря, наш старший сын, внизу на площадке я вижу много стоящих людей, а среди многих голов - твоя голова. Так будет, я верю. Ты меня встретишь, и мы, несмотря ни на что, узнаем друг друга. Если ты меня, возможно, не узнаешь, - я все равно узнаю твои глаза, прекрасные, как драгоценные камни, твои золотистые волосы, волшебно легкие линии твоего лица. Я тебя не спутаю ни с кем из ангелов у Его престола, не думай. Ты есть Ты и только Ты». Старшему сыну Боре еще предстоит стать известным китаистом, писателем-диссидентом и автором повести «Одна абсолютно счастливая деревня», поставленной недавно в театре Петра Наумовича Фоменко. А самой Вере Пановой тогда еще предстояло подарить нам вышедшую через 17 лет после ее смерти в 1990 году замечательную биографию одного из трех главных учителей человечества - «Жизнь Мухаммеда». Эта книга впервые простым языком рассказала советским людям - мусульманам и немусульманам - о пророке ислама, многим указавшем путь к тому самому престолу Единого Бога, у которого Вера надеялась встретить покойного мужа. РИА Новости. РИА Новости | Купить иллюстрацию Советская писательница Ольга Федоровна Берггольц (1910- 1975 г.г.). У Берггольц в тридцатые годы одна за другой в малолетстве умирают две дочери - Майя и Ирина. Впоследствии она будет казнить себя, что недоглядела, недолечила, недолюбила. Понадеялась на государство - ему тогда модно было верить, освобождая свое время для занятий менее прозаических, чем уход за детьми. После смерти Майи в 1933 году она напишет: Четыре дня Республика сражалась за девочку в удушье и жару, вливала кровь свою и камфару… Я с кладбища зеленого иду, оглядываясь часто и упорно на маленькую красную звезду над грядкою сырого дерна… Но - я живу и буду жить, работать, еще упрямей буду я и злей, чтобы скорей свести с природой счеты за боль, и смерть, и горе на земле. Пройдя после ареста в 1938 году через тюрьму, где она потеряет третьего ребенка, Берггольц взглянет на смерть первой дочери совсем по-другому, без Республики. На пороге между жизнью и смертью Республика - плохой проводник. В 1954 году Берггольц напишет: Так цепко обнимала, так ловила, так подождать молила я тебя, а ты все уходила, уходила, другую оставляла за себя… И вдруг по крови собственной, по стону, по боли, но не прежней, не такой, я поняла, что ты вернулась в лоно, в меня вернулась - смертною тоской. О, как она томит и раздирает, как одевает в траур бытие, да будет вечной жизнь твоя вторая, дитя несбереженное мое… Жизнь вторая - это уже из совсем другой истории, которую Республика как раз настоятельно рекомендовала забыть. Чтобы извлечь эту историю из забвения, понадобились мучения ленинградской блокады, которую Берггольц фактически добровольно пережила в родном городе, параллельно справляясь и с другими бедами - необходимостью помогать беспомощной сестре, высылкой из Ленинграда отца, военного хирурга, чем-то вызвавшего подозрения у НКВД. Все эти беды, сопровождая их нелицеприятными комментариями в адрес власти, Ольга зафиксировала в своем дневнике, конфискованном госбезопасностью после ее смерти в 1975-м и рассекреченном ФСБ только в 2009 году (это и делает публикацию дневника издательством «Азбука-классика» уникальной). Но были и легально напечатанные стихи, за которые Берггольц стали называть «ленинградской мадонной». Очень сомнительный для казенных оптимистов титул. Вскоре после войны бывший друг-поэт «Сашка» Прокофьев вместе с партбюро Ленинградского отделения Союза писателей обвинит ее в выпячивании темы страданий. Это чуть не кончилось для Берггольц очень плохо. Впрочем, когда искренние писания о человеческой беде кончались для настоящего писателя хорошо? В те времена казенные оптимисты считали «чрезмерные» страдания политически вредными, теперь гламурные оптимисты считают их просто неприличными. Смысл все тот же. «В этой жизни вы любили трубочку с кремом»,- сказал как-то великий Василий Гроссман одному молодому писателю-оптимисту. Впрочем, живи этот молодой человек нынче, он вряд ли пошел бы в писатели. РИА Новости. Александр Гладштейн | Купить иллюстрацию Сцена из спектакля по пьесе Веры Пановой "Метелица" в исполнении актеров школы-студии имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТе имени М. Горького. Для Веры Пановой война стала настоящим спуском по кругам дантовского ада. В момент начала боевых действий она оказалась в городе Пушкине под Ленинградом с несовершеннолетней дочерью, а в селе Шишаки Полтавской области, на Украине, ее ждали двое маленьких сыновей, оставшихся на попечении бабушки. Пушкин в сентябре 1941 года взяли немцы, и Панова с дочерью через оккупированную территорию добралась до семьи на перекладных. По дороге она видела брошенную синагогу в Нарве, где вместо истребленных евреев оказались беженцы из России, и два гетто в Риге - одно для евреев, другое для побежденных «советских оккупантов». Впрочем, Панова рассказывает и о том, как латыши, эстонцы и украинцы помогали ей, выдавая за свою: заигрывая с этими народностями, немцы облегчали им передвижение по оккупированной территории. На этом пути была одна радость - легальное богослужение на праздник Покрова в октябре 1941 года. У Пановой хватает, однако, здравого смысла и патриотизма не ставить Гитлера выше Сталина из-за временно-лояльного отношения фюрера к церковным службам, как это делают некоторые наши современники. Вот как пишет она в автобиографии «Мое и только мое»: РИА Новости. Н. Боде | Купить иллюстрацию Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Бои на улицах Сталинграда. 1942 год. В ожесточённых оборонительных сражениях была сокрушена наступательная мощь врага и обескровлена главная ударная группировка немецкой армии. «В украинской газете Геббельс почти извиняющимся тоном говорил о неудачах немецкой армии под Сталинградом и о том, что никто не подозревал об огромном военном потенциале Советского Союза. Никогда не забуду, с каким торжеством мы читали эту статейку, где мерзавцы публично расписывались в полном своем крахе. Другая статья была еще страннее. В ней взывалось ни более, ни менее как к христианским чувствам - как-де нехорошо, как грешно мстить даже тем, кто тебя обижал. И что Господь Бог велел, мол, прощать, а не мстить. Тут уж яснее нельзя было высказаться. Собрались драпать и давят населению на психику». Из военных впечатлений Пановой сложились ее замечательные романы - «Кружилиха», «Спутники». Помню, еще в школе, читая эти романы в океане прочей отмеченной Сталинскими премиями лабуды (в школьном курсе по отечественной литературе сталинизм сохранился до второй половины восьмидесятых), я как-то выделил их, запомнил. Почему? Вроде бы - стандартный социалистический реализм, производственная и военная темы, никаких крамол и формальных изысков. Наверное, я отметил их потому, что была в этих романах какая-то внутренняя свобода, свобода от греха, которая не дается и не отнимается правительственными постановлениями и писательскими съездами. Об этой свободе замечательно сказала Ольга Берггольц в «Стихах о себе»: И все неукротимей год от года к неистовству зенита своего растет свобода сердца моего - единственная на земле свобода. Люди жалуются, что сегодня за толстую книгу писателю платят эквивалент двухмесячной потребительской корзины. Да, кому-то когда-то за книгу давали кооперативную квартиру. А у кого-то не то что книг - ни единого стиха не печатали. В отношении Анны Ахматовой с 1925 года до смерти Сталина действовало негласное постановление - не арестовывать, но и не печатать. А знаменитый доклад Жданова против Ахматовой в 1946 году был вызван тем, что ее тогда восторженно встретили на литературном вечере - после 21 года молчания. Да и Берггольц в книгах могла выразить лишь десятую или двадцатую долю того, что было в душе: Нет, не из книжек наших скудных, подобья нищенской сумы, узнаете о том, как трудно, как невозможно жили мы. Так чего же мы боимся, чего жалуемся и ленимся - с нашими интернетами, литературными агентами и изданиями за счет автора? Панова, пока жила на оккупированной территории, хранила рукопись своей пьесы в дровяной поленнице. А у Берггольц при обысках забирали не только все записные книжки, но даже все карандаши. И все равно люди писали. А вы говорите - трудно… Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
|