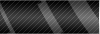Известный режиссер и МАРИНА ДАВЫДОВА попытались понять, стоит ли еще чего-нибудь в искусстве понятие «профессионализм»В Москве на фестивале NET со спектаклем «Калигула» побывал Явор Гырдев, чей фильм «Дзифт» стал сенсацией прошлогоднего ММКФ.
— У тебя был какой-то кинематографический опыт до того, как ты снял «Дзифт»?
— Нет, вообще никакого. У меня было некоторое количество видеоэкспериментов, но их невозможно назвать словом «кино».
— Получается, что человек, не имеющий никакого кинематографического опыта, может с первого же раза сделать фильм, который получит призы, признание критиков и т.д. Как тебе кажется, в театре такое возможно?
— Не знаю… Мне сейчас 37 лет, а когда я начинал, еще студентом, ставить спектакли (я изучал одновременно философию в университете и режиссуру в Национальной театральной академии), это были просто муки какие-то. Я все время спрашивал себя: я уже режиссер или еще нет, я справлюсь или не справлюсь? Я так нервничал, что все время бегал в поликлинику, и мне там давали лекарства от сердца. Так что это в первую очередь вопрос уверенности в себе.
— Но за последнее время появилось довольно много людей, которые никогда не делали кино и вдруг сделали, и весьма преуспели. Тут и наши Иван Вырыпаев и Василий Сигарев, и ирландец Мартин Макдонах. И надо сказать, во всех этих случаях мы имеем дело с работами, куда более интересными, чем многие фильмы так называемых профессиональных режиссеров.
— Ну, я думаю, это еще и оттого, что театральный режиссер, и уж тем более драматург, начиная снимать кино, понимает, что ставки очень высоки. Он знает: если провалишься, второй попытки уже не будет. Уже никто не вложит в тебя деньги. Уже скажут — до свидания. Когда я это понял, у меня сразу появился кураж.
— И все же возникает невольный вопрос: а кинорежиссер — это вообще профессия? Ведь мы не знаем ни одного случая обратного путешествия: из кино в театр. Ингмар Бергман, сразу оговорюсь, не в счет, он с самого начала существовал в двух ипостасях. Но даже такой гений, как Тарковский (не говоря уже о Сергее Соловьеве или Андроне Кончаловском), с точки зрения театральной общественности оказался не слишком силен в своих сценических опытах. Почему этот обратный путь оказывается более тернистым?
— Это сложно объяснить… В театре очень важен накопленный опыт. В первую очередь опыт работы с актерами. Там же все всегда происходит в режиме реального времени и нет возможности потом что-то подправить, положиться на искусство монтажа, научиться чему-то в процессе. Надо сразу выстроить эти отношения, сразу найти верную интонацию. Поэтому театр такое трудное искусство. Но не знаю, как у вас, а у нас многие при этом считают, что театр, во всяком случае в привычных его формах, — искусство прошлого. Знаешь, когда по-болгарски говорят: они играют театрально, это значит — они плохо играют. Переигрывают. Есть твердое убеждение, что театральные режиссеры не должны и не могут делать кино, потому что их фильм обязательно будет таким… бутафорским, а актеры будут ужасно кривляться.
— И тебе тоже предъявляли такие претензии?
— Конечно, с самого начала… И я ими воспользовался. Я решил, что мое слабое место должно стать моим сильным местом. Я все время подчеркивал свой театральный генезис. Я вообще решил, что надо делать все так, как мне хочется, а не так, как советуют. И очень радовался, что у меня в кино нет прямых учителей, которые могли бы наблюдать за мной и говорить: это не по школе, так люди в кино не делают и т.д.
— Но в кино в отличие от театра многие параметры задает сам выбранный режиссером жанр. Кстати, как ты сам определил бы жанр своего кино? Нуар?
— Неонуар.
— И в чем, по-твоему, между ними разница?
— О, это большой спор, когда появился неонуар. Некоторые считают, что он возник, когда исчерпал себя сюжет преступления, совершенного по социальным мотивам. Когда преступления в фильмах стали не социально обусловленными, а совершались из-за какой-то мании. И уже у Хичкока, таким образом, мы видим начало неонуара. Другие (я к ним принадлежу) думают, что неонуар начинается, когда появляется рефлексия по поводу этого жанра и соответственно ирония — как у братьев Коэн или Тарантино. У меня очень много отстраняющих конструкций в фильме, которые в классическом нуаре просто запрещены.
— Но это все сугубо кинематографические средства. А когда ты сказал, что не стеснялся быть театральным, что ты имел в виду? В чем это выражалось?
— Я отвечу общо. Я думаю, что война факультетов (вот тут у нас общество кино, а тут общество театра, а тут живописи) — с некоторых пор уже предрассудок. Я знаю, что трансгрессия этих границ — одна из самых провокативных вещей, которые может делать режиссер. И она сама по себе уже может быть темой произведения. Обычно как происходит… Ты подаешь документы и говоришь: а можно мне вашу границу пересечь, вы мне визу поставите? Тебе отвечают: да, но сначала изучи нашу профессию, узнай о ней побольше и т.д. Это такой социальный ритуал. Но если ты взял и просто пересек границу — это уже провокация. Тут все потирают руки в ожидании провала, и тогда ты начинаешь играть самой ситуацией непринятого человека.
В этой первичной провокации для меня уже есть драйв. Ведь если ты что-то делаешь не так, как принято, ссылаясь при этом на какого-то великого режиссера, тебе говорят: «Ну, он режиссер кино, а ты кто такой? Делай, как принято — по школе». И у меня именно так и получилось. Стоит при этом вспомнить, что Владислав Тодоров, автор сценария, а до того автор романа «Дзифт», по образованию теоретик и театральный критик. От него все ждали чего-то сверхинтеллектуального, копания в тайниках души. А он вдруг позволил себе написать не просто роман, а жанровый роман. То есть он в каком-то смысле предвосхитил мою трансгрессию.
— Ты никогда не пробовал работать на поле актуального искусства? Для любителя трансгрессии — это ведь закономерный путь.
— Пробовал. Несколько лет тому назад у меня был перформанс. Он назывался «Визуальная полиция». И когда в конце года в газете «Культура» был опубликован опрос критиков, моя видеоинсталляция заняла второе место. Я выступал там в роли фиктивного майора Стефанова, служащего в некоей — несуществующей, конечно — визуальной полиции. Со мной делали интервью несколько самых известных телеведущих. Мы (визуальная полиция) инспектировали всякие здания на улицах города, и если обнаруживали в них кич, то требовали их разрушить. И эти наши требования очень серьезно дебатировались в телестудиях.
— Если в современном искусстве так часто случаются трансгрессии и они так плодотворны, что же происходит со столь важным понятием, как «профессионализм». Оно еще наполнено каким-то смыслом?
— Последнее время, когда мне говорят о чем-то в искусстве: «Это непрофессионально», — я настораживаюсь. Причем не по отношению к тому, о чем сказали, а по отношению к самому сказавшему. Вот возьмем выдающегося режиссера современности Хайнера Геббельса. С точки зрения наших обычных представлений о театре он совсем не профессионал. Или такой мастер трансгрессии, как Ян Фабр… То, что он делает, не имеет отношения к какой бы то ни было театральной школе. Но это имеет отношение к искусству. Зато я знаю огромное количество произведений, которые сделаны «по школе», но которые бесконечно далеки от искусства. Так что профессиональные сертификаты для меня — это сейчас просто принадлежность к некоей социальной группе. Не более…
— Но если отменить их вовсе, искусство заполонит огромное количество шарлатанов.
— А разве сейчас их нет? Сама потребность в сертификатах уже показательна. Если ты ничего не знаешь о Дюрере и увидишь его картины, ты сразу поймешь, что он настоящий художник, и никакие сертификаты тебе не будут нужны. Мейерхольд не был дипломированным режиссером, но он был режиссером. А армии дипломированных специалистов (режиссеров или художников) их дипломы нужны просто как способ самоутверждения.
— И все же ты можешь сказать, что чувствуешь себя хоть в чем-то профессионалом?
— Я чувствую себя сейчас профессионалом трансгрессии. Разве этого мало?
|