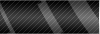ТЕКСТ:
беседовал Ярослав Забалуев ТЕКСТ:
беседовал Ярослав Забалуев
ФОТО: ИТАР-ТАСС Владимир Познер рассказал «Парку культуры» о своей книге «Тур де Франс», разрушении стереотипов и дальнейших планах, а также поставил диагноз российскому телевидению.
В феврале в продаже появилась книга Владимира Познера «Тур
де Франс» — литературное дополнение к прошедшему в конце прошлого года
на Первом канале одноименному сериалу, в котором Познер и Иван Ургант
рассказывали о своих путешествиях по Франции. Корреспондент «Парка
культуры» встретился с одним из самых авторитетных российских
тележурналистов, чтобы узнать, зачем ему понадобилось дополнять фильм
книгой, расспросить о следующих фильмах серии и попросить оценить
состояние российского телевидения. — В чем принципиальное отличие книги от сериала? Сериал прошел в конце года, теперь выходит книга. Зачем людям ее покупать? —
Книга — это совершенно не пересказ фильма. Она написана не в
хронологическом порядке. Это попытка рассказать в письменно виде о том,
что такое Франция, что я для себя открыл во время этого путешествия.
Это попытка развеять по возможности некоторые общие представления о
Франции. Ведь для нас Франция — это что? Это еда, это духи, это мода…
Мне хотелось показать, что это нечто совсем другое — страна
колоссальных традиций, древнейшей истории, страна, кстати говоря,
хай-тека. Напомнить, что эта страна является первооткрывательницей
кино, что это первая страна, построившая поезда высокой скорости… Это
страна, как вам сказать, гораздо более широкая, чем то, что
представляют здесь. Это же касается и самих французов. Я
пытался показать Францию так, как я ее вижу, как я ее понимаю, не
скрывая своей симпатии, не скрывая того, что я наполовину француз, я
там родился. — В «Одноэтажную Америку» вашими проводниками были Ильф и Петров. У вас был подобный ориентир при написании «Тур де Франс»? — «Одноэтажная Америка» — там это просто напрашивалось. Когда мы задумывали «Тур де Франс» (кстати,
название мое), я прекрасно понимал, что у нас нет гида, нет маршрута, я
понимал, что это надо делать как-то по-другому. Я пытался определить те
места, те города, те районы Франции, которые помогут понять, что это за
страна. Конечно, Париж есть Париж, и от него никуда не уйдешь, да и не
надо. Я довольно много читал предварительно. Было интересно читать то,
что писали русские писатели о Франции — с середины XVI века, когда
начали туда ездить, того же Фонвизина. Начинаешь понимать, как на самом
деле в России относились к Франции, почему именно Франция оказалась
наиболее близкой для России, хотя французы и русские совершенно не
похожи друг на друга. Кроме того, я пытался влезть как можно глубже во
французскую историю, которая чрезвычайно любопытна и дает очень много с
точки зрения понимания сегодняшнего дня. Эта книга получилась более
личной, чем «Одноэтажная
Америка», потому что я наполовину француз, потому что моя мама была
француженкой и потому что во Франции я чувствую себя наиболее дома. — Всякий раз, когда речь заходит об этих ваших проектах, вы говорите, что одна из ваших целей — развеять мифы… —
Да, я считаю, что Россия оказалась на протяжении почти всей своей
истории отрезана от остального мира. Так было и в царской России:
ездили мало, а если говорить о народе, то и вовсе не ездили. Это
продолжалось или даже было усилено в советское время. Источники были
либо своими — будем честны, не слишком объективными, либо иностранными
и тоже особой объективностью не отличались. Я считаю, что эта
отрезанность нанесла очень серьезный ущерб России. Возникло, с одной
стороны, подозрительное отношение к Западу или, напротив, чрезвычайно
восхищенное, а также ощущение своей особенности, своего особого пути.
Это, кстати, идет от Русской православной церкви — народ-богоносец,
Третий Рим, четвертому не быть и так далее. —
Может быть, у вас уже есть еще какая-то страна на очереди? Может быть,
зрителями и читателям пора узнать правду об английском снобизме,
например? — Англия пока не отпала, но, знаете,
это, может быть, покажется странным, но с Англией, с Великобританией у
России плохие отношения, причем давно. И мы понимаем, что нам будет
очень трудно получить у англичан возможность работать. Мне очень хочется сделать Англию, как хочется сделать фильм о Японии. Эта
страна меня страшно увлекает, но я не знаю ни слова по-японски. И
потом, это настолько другая страна и, кстати, не иудейско-христианская,
это настолько другой менталитет, что мы, думая, что мы что-то понимаем,
ничего понимать не будем, будем ошибаться. Это такая мечта и пока не
более чем мечта. Мы будем снимать фильм по Италии.
Это будет принципиально другой фильм. Если Франция и Америка для меня
страны в общем родные и я их довольно прилично знаю, то Италия,
конечно, нет. Я довольно слабо говорю по-итальянски — немного говорю,
довольно много понимаю-, благодаря французскому. Я много раз бывал в
Италии, но все же это нечто совершенно другое. Я понимаю, что выстроить
Италию так же, как Францию и Америку, я не смогу. Поэтому у нас будет
совершенно другой подход, могу вам даже рассказать. Идея
такая: мы с Иваном возьмем интервью у десяти известных, крупных
итальянцев. Это будет дома у них, за обеденным столом, будем говорить
об Италии, в каждом интервью им обязательно будет задано по два
вопроса. Если бы я приехал в Италию и мог увидеть только одно место,
один город, что бы вы посоветовали? И если бы мы могли съесть только
одно итальянское блюдо, что это было бы за блюдо и где его лучше всего
готовят? Сделав эти интервью — мы хотим завершить эту работу к концу
марта, — ближе к лету (в
конце мая — в июне) мы бы поехали по тем местам, которые они
посоветовали и съели бы эти блюда. А уж потом, при окончательном
монтаже, мы введем эту поездку в тело интервью с этим человеком. Таким
образом, у нас получится разговор с самим человеком и его Италия. Это
будет совершенно другой подход, я думаю, интересный. Мы с Иваном,
полагаю, узнаем об Италии не меньше, чем наши зрители. — А почему именно Италия? —
Нам интересно, и, мне кажется, всем это будет интересно. И потом, если
спросить российского человека об Италии — ну что он ответит?
Макаронники? Что еще? Мне очень хочется, например, поговорить о
Ренессансе. Знаете, что
любопытно, в России Ренессанса не было по одной причине — из-за
татарского ига. Если посмотреть на русское искусство до татарского ига,
то ты просто видишь, как он зарождался. Если
посмотреть на русскую икону — это же ничем не уступает Джотто, а Джотто
— это самое начало Ренессанса. И тут как хрястнуло — и 250 лет… Тут
много всякого интересного, на мой взгляд. — А кто станет героями? —
Пока я могу говорить только предварительно, с кем мы пытаемся работать.
Это чрезвычайно известные в России люди — Челентано, Моника Белуччи,
Софи Лорен, может быть, чуть менее известный, но выдающийся писатель
Умберто Эко. Плюс совсем другие персонажи — президент FIAT, например.
Возможно, будет пара совсем неизвестных людей — скажем, стеклодув из
Венеции. — Когда на экране после «Одноэтажной Америки» появился «Тур
де Франс», я подумал вот о чем: вы всякий раз подчеркиваете, что вы
иностранец и не считаете Россию родной страной. Вы не думали сделать
такой же фильм о России? — Да, конечно, думал,
Россия поразительно интересная страна. Но тут, видите ли, что
получается… Начну со смешного примера. Много лет тому назад приехал ко
мне мой внук, который родился и вырос в Германии. Мама его русская, но
папа немец, и он рос там. Он еще был маленьким, ему было лет 10. И вот
мы поехали на дачу, и на железнодорожном переезде он вдруг меня
спрашивает: «А
почему столб кри'вый?» Он увидел столбы, которые стоят так, так… В
Германии все столбы стоят прямо, а мы не замечаем, что у нас они не
прямые. Мы это воспринимаем как нечто естественное. А человек с
незамыленным глазом, он видит многое из того, что мы не видим. То же
самое было, когда мы показывали наш фильм про Америку американцам: они
удивлялись многим вещам, которые они видят каждый день. Я боюсь, что
если бы я собрался делать фильм про Россию вместе с Ваней, то я бы
многого не замечал из того, на что стоило бы обратить внимание. Я
думаю, что фильм о России нужно было бы делать с настоящим иностранцем.
Он видел бы то, что мы не видим, — миллион мелких вещей. Я никак не
могу открыть Россию для русских. — Давайте теперь
поговорим о телевидении — о том, что вы можете для нас открыть. После
событий в Домодедово и на Манежной площади заговорили о смерти
телевидения, которое не прерывает развлекательного вещания в
чрезвычайной ситуации. Вы разделяете этот скепсис? —
Я бы, конечно, не спешил с эпитафией. Но тот факт, что вещание не
прерывалось, особенно в отношении Домодедово, — это плохой признак. Это
говорит о нездоровом состоянии телевидения сегодня, об этом как раз и
говорил Парфенов (речь о выступлении Леонида Парфенова на вручении премии Листьева – «Газета.Ru»). Это очень легко изменить — это политическое решение. Я надеюсь, что это изменится. Сегодняшнее
состояние телевидения, когда развлекающее и отвлекающее занимает
главенствующее место, — это штука пагубная. Причем пагубная не просто
для телевидения, но и для народа. Люди
для себя постепенно определяют, что важно, а что не так важно. Так что
смерть не смерть, но можно поставить диагноз: пациент болен. И у него
высокая температура. — Вы работали не только на
российском телевидении и можете сравнивать. Как бы, на ваш взгляд,
повели себя телекомпании других стран в случае теракта, подобного
домодедовскому? — Если говорить о тех странах,
которые я знаю, то вмешательство власти или интересы хозяина канала,
безусловно, имеют место, но далеко не в той мере, в какой у нас. Если
бы в любой из знакомых мне стран случилось нечто подобное, то, конечно,
прервалось бы вещание. Несомненно. Там, безусловно, остается понимание
того, что передача информации о важном событии — это первейшая задача
телевидения. — О том же примерно ведь говорил и
Леонид Парфенов в своей речи, приуроченной к вручению ему премии
Листьева. Вы были одним из немногих, кто его поддержал. Вам изнутри
виднее — какие-то изменения начались? — Я бы не
сказал, что это сколько-нибудь заметно. Я поддержал его речь в том
смысле, что я могу подписаться под каждым словом. Я до сих пор не
уверен, что он выбрал для этого правильное место, потому что, в конце
концов, руководители российского телевидения не являются таковыми. Они
не решают, какой будет вещательная политика, это решается наверху, это
решается Кремлем. Обвинять их, на мой взгляд, не совсем корректно. Все
наше федеральное, да и региональное телевидение, его политика
определяется либо местной, либо федеральной властью. Тут некуда
деваться. Если бы так случилось, что региональное телевидение было
перестроено так, что не было бы губернаторского телевидения, не было бы
телевидения мэра города. И если бы федеральное телевидение было бы
перестроено таким образом, что были бы частные каналы и общественные,
как это есть в 49 странах мира, это было бы другое дело. У меня, да и у
него были сомнения — здесь ли об этом надо говорить. Я знаю, что многие
не забыли его слова и до сих пор очень недовольны, но сказать, что они
произвели какие-то изменения, я не могу. По крайней мере, я их не вижу. — Вы говорили о том, что у вас с Константином Эрнстом (гендиректор Первого канала. — «Газета.Ru») была устная договоренность о тех людях, которых вы не можете пригласить в свою программу. Этот список не сократился? — Пока нет, пока он не сокращается. — А Парфенова вы могли бы туда пригласить? —
Да, Парфенова мог бы. Но есть люди, которых я не могу туда позвать, я
могу их назвать. Это Немцов, мне был бы интересен Каспаров, хотя он
отошел от активной политики. — Лимонов? —
У меня с ним проблема. Я считаю, что возглавляемая им организация имеет
определенные фашистские оттенки. И я предоставлять слово людям,
придерживающимся такой идеологии, — у меня с этим трудности. Я слишком
хорошо знаю, что такое фашизм. Было бы трудно. Хотя с точки зрения
принципиальной журналистики, наверное, надо было бы. Но тогда мне
пришлось бы бороться с самим собой, а не с цензурой. — То есть его нет среди людей, о которых вы договаривались? — Конечно, есть.
|