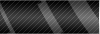Это похоже на стихи человека, у которого от всей плоти осталась одна нервная система Это похоже на стихи человека, у которого от всей плоти осталась одна нервная система
* * *
что нажито — сгорело: угли
пойду разгребу золу может найду железный рублик (давно не
в ходу) или юлу в бывшем детском углу
а на бывшую кухню не сунешься — рухнет: перекрытия слабые
основания стояки
мы мои дети мои старики оказались на улице не зная куда
и сунуться
впрочем господь не жалеет ни теплой зимы ни бесплатной еды
оказалось что дом был не нужен снаружи не хуже
и все потихоньку устраивается
наши соседи — тоже погорельцы
они
отстраивают домишко
не слишком верится в успех этой новой возни они ж не
строители а как и мы погорельцы но дело даже не в том а просто
непонятно зачем им дом — будет напоминать о доме
дома о домах люди о людях рука о руке между тем на нашем
языке забыть значит начать быть забыть значит начать быть нет
ничего светлее и мне надо итти но я несколько раз на прощанье
повторю чтобы вы хорошенько забыли:
забыть значит начать быть
забыть значит начать быть
забыть значит начать быть
У поэзии Михаила Гронасаесть по крайней мере одно совершенно новое свойство: странная опустошенность, где кротость настолько перекрывает отчаяние, что того словно и нет вовсе. Точнее, в самом отчаянии нет ни тени надрыва, оно тихо покоится на дне всех прочих ощущений. Такое «утопленное» отчаяние не заслоняет мир и ничего уже не отнимает. Герой этих стихов все отдает сам, без принуждения. Ему уже не нужно.
Обстоятельства, в которых возникает и живет это новое свойство, не декларируются, проговариваются мельком и в большей степени проявлены состоянием самой стиховой материи. Та существует на минимуме средств и почти прозрачна. Высказывание, с виду нерешительное, последовательно строит себя из коротких элементарных сигналов. Как будто это и не слова, а звуки ударов твердого о сухое, дающие понятийный отзвук.
Только вот путь таких сигналов не короток и вовсе не элементарен. И мы можем проследить, как идет сигнал, как он искрит на поворотах и стыках. Это похоже на стихи человека, у которого от всей плоти осталась одна нервная система.
Или — в другом модусе — это работа памяти, теряющей словарную массу, но хранящей, как последнюю ценность, обостренное чувство языка. Письмо беженца, где прежние слова нужны для другого и «на нашем языке» имеют другое значение. Главная их задача — обнаружить говорящего.
Опыт беженца, возможно, самый актуальный опыт рубежа тысячелетий. Новый век как будто дает человеку еще одну — последнюю? — возможность «индивидуального выхода», но уже на новом витке отверженности, новом уровне неприкаянности.
Странное очарование заброшенности, бездомности. Способность чувствовать своей семьей группу случайных попутчиков.
Солидарность без коллективизма; религиозность без благочестия.
Ранимость и агрессивность парии.
Все эти вещи надо принять и по-новому распределить. Это огромная работа. Эмиграция — занятие на всю оставшуюся жизнь.
Человек, у которого нет места, а есть только направление, становится первым и единственным. Ему неоткуда ждать помощи. Вокруг ничего нет, только непонятная пустыня, где прежние навыки уже не пригодятся, от них один вред. Необходимо собрать себя заново, обнаружив новые способности ориентации. Так слепому требуются какие-то дополнительные органы для знакомства с незнакомыми вещами.
Нужно растерять, рассеять свою впечатлительность. Когда-нибудь потом ее привлечет к себе необходимое, но сейчас пусть она ровно, как пыль, осядет на все предметы. Растерянность — норма беженца, единственно возможный способ собраться вновь. Это, собственно, его рабочее состояние.
И такая отрешенность очень подходит для того, чтобы сделать предметом описания то, что между предметами — неочевидную предметность, мир между мирами.
Но о чем бы ни шла речь в стихах Гронаса, в них есть какой-то неделимый остаток — целое речи. Высказывание движется в темноте и на ощупь, сильными рывками внутренних рифм. Ритм не задан, его находит, обнаруживает само стихотворение как помощь себе — как то единственное, что может вытянуть слово на поверхность.
«тонешь тонешь, / а уже идешь под водой / дышишь через тростинку».
И эту последнюю цельность не способны отнять у человека даже те обстоятельства, что не без успеха пытаются обратить его в пыль, гонимую ветром.
|