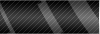Легендарный танцовщик привез в Ригу спектакль о прошлом и о том, как это прошлое пережить Легендарный танцовщик привез в Ригу спектакль о прошлом и о том, как это прошлое пережить
Май разводит русскую и латвийскую общины балтийской страны особенно радикально: первая фыркает по поводу слова «независимость» (4 мая — национальный праздник), вторая морщится при слове «победа», предпочитая понятие «оккупация». Когда 3 мая хоккейная сборная Латвии проиграла российской сборной, в городе случились локальные драки, и выяснялись в них чувства вовсе не хоккейные. В Латвии с прошлым не простились — ни русские, ни латыши. И вот сын оккупанта, офицера Советской армии, открыто презиравшего местное население, и тихой домохозяйки, которая однажды устала от жизни до такой степени, что приняла решение закончить земное путешествие самостоятельно (и нашел ее вернувшийся из школы ребенок), приехал накануне этих праздников-непраздников в Ригу.
Барышников много лет отбрасывал прошлое, как ракета ненужные уже ступени: после переезда в Ленинград в Вагановское училище и до своего побега он ни разу не наведывался в Латвию. После того как перебрался в Штаты, ни разу не собрался в Петербург (и не только в советские годы, когда это было невозможно, но и теперь, когда его регулярно зовут на всяческие мероприятия). Впервые танцовщик начал вспоминать что-то лет десять назад — и тогда был первый приезд в Ригу, он бродил по Старому городу (говорят, в квартиру, где Барышников когда-то жил, нынешние хозяева его не пустили). Теперь вот привез целый спектакль о прошлом и о том, как это прошлое пережить.
«Три соло и дуэт» — так называется программа, которую Михаил Барышников затем повезет по миру вместе с замечательной шведской балериной Аной Лагуной. В этой программе два соло Барышникова — мировая премьера маленького балета, сочиненного Алексеем Ратманским на музыку «Вальса-фантазии» Глинки, и столь же небольшой монолог «Годы спустя» Бенджамена Миллепье. Одно соло Лагуны, изобретенное ее мужем, хореографом Матсом Эком, и одноактовка «Место», также поставленная Эком (создатель самой радикальной в истории балета «Спящей красавицы», где феи-крестные были легконравными медсестрами, а папа принцессы Авроры водил малолитражку, совсем было переметнулся от танцев к перформансам и инсталляциям, но ради жены и Барышникова вернулся). Все эти вещи — о возрасте, об опыте, о потерях.
 Начинается спектакль в полной тишине: герой у невидимого зеркала готовится к выходу в свет. Это что-то вроде маленькой репетиции: примерка галстука — но кроме того, и примерка движений. Вот так он подойдет к даме (жесты — чуть эффектнее, чем естественные, что-то от кино 30-х годов), вот так произнесет комплимент (на пустынной сцене, где герой находится во вполне цивильном пиджаке, привычный для классики балетный жест «вы-красавица», когда кисть руки описывает полукруг у лица, выглядит чудовищно архаично). Все эти микрорепетиции отделены друг от друга крохотными паузами, как будто нарезаны кусочки пленки: так, как и бывает с воспоминаниями; замерев на долю секунды, герой переходит к следующему фрагменту. Когда-то все получалось само собой, а теперь порядок движений надо вспоминать. Начинается спектакль в полной тишине: герой у невидимого зеркала готовится к выходу в свет. Это что-то вроде маленькой репетиции: примерка галстука — но кроме того, и примерка движений. Вот так он подойдет к даме (жесты — чуть эффектнее, чем естественные, что-то от кино 30-х годов), вот так произнесет комплимент (на пустынной сцене, где герой находится во вполне цивильном пиджаке, привычный для классики балетный жест «вы-красавица», когда кисть руки описывает полукруг у лица, выглядит чудовищно архаично). Все эти микрорепетиции отделены друг от друга крохотными паузами, как будто нарезаны кусочки пленки: так, как и бывает с воспоминаниями; замерев на долю секунды, герой переходит к следующему фрагменту. Когда-то все получалось само собой, а теперь порядок движений надо вспоминать.
Но вот после «репетиции» наступает время «спектакля»: усиливается свет, на сцену влетает вальс, и герой оказывается в бальном зале. Барышников — все так же в полном одиночестве — создает иллюзию толпы: так он реагирует на каких-то подразумевающихся людей. С этим здоровается, от того явно шарахается, вот летит к прелестнице, руки прижаты к сердцу, с этой не удалось, ну что ж, к другой… И — казалось бы, катастрофа, полученный отказ доводит до мысли о самоубийстве (к виску приложена сложенная пистолетиком кисть руки) — но тут же мгновенный сброс напряжения и усмешка в зал: да бог с вами, я же шучу. То, что теперь не дается, уже и не нужно; жизнь все равно стоит того, чтобы жить.
Это в юности Барышников воспроизводил в «Жизели» романтическое безумие, на героя (сохранилась пленка) страшно было смотреть: тогда в танце утверждалось «все или ничего». Теперь танцовщик идеально совпал с тем сегодняшним хореографом, что превыше всего ценит душевную организованность и способность владеть собой, а к романтическому раздрызгу чувств относится с брезгливым подозрением. Рецепт выживания у 61-летнего танцовщика и 40-летнего хореографа, отказавшегося от исполнительской карьеры, один и тот же.
Сочинитель второго соло для Барышникова Бенджамен Миллепье, которому чуть за тридцать, еще не расстался с карьерой танцовщика. Он солист New York City Ballet — можно вспомнить, как на гастролях американцев в Мариинке в 2003 году народ устроил овацию маленькому шмелю, просвистывавшему сцену с фантастической скоростью и не менее фантастической аккуратностью. Для него самого вопрос прощания с танцами еще не стоит — он сочиняет балет не о себе; но почувствовать Барышникова он смог замечательно. В его маленьком спектакле на музыку Филипа Гласса и Акиры Рабле танцовщик ведет диалог с самим собой на экране. Сначала — с мальчиком в классе хореографического училища, затем — с обозначающим джаз американцем. С ребенком уже — ничего общего; пытаясь повторить вращения того юнца, сегодняшний Барышников останавливается и машет рукой — а, невозможно. С джазменом — что ж, почему бы нет, можно поиграть на воображаемом саксофоне. Часть «училищная» больше (или таковой кажется) — как детство кажется больше более поздних воспоминаний. В движениях того Барышникова, что сейчас на сцене, — намеки на арабески, обозначения пируэтов, и ни капли горечи. Чуть досады, может быть. Но и — никакой лихой декларации в духе той, что стала финалом придуманного Ратманским монолога: когда человек не кричит «мне все равно, сколько мне лет», ему как-то больше веришь.
|