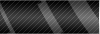Анастасия ТОМСКАЯ, Виктор БОРЗЕНКО, Валерий ЯКОВ, Анатолий МОРКОВКИН (фото)
Театр на Таганке отмечает свое 45-летие. Каждый год в день рождения театра, 23 апреля, бессменный лидер Таганки Юрий Петрович Любимов играет премьеру. Этот год – не исключение. Почетные гости и близкие друзья театра увидят в этот день спектакль «Сказки», сочиненный режиссером по произведениям Андерсена, Диккенса и Уайльда. Накануне юбилейных торжеств мы посетили легендарный кабинет главного режиссера для того, чтобы вручить Юрию Петровичу премию «Звезда Театрала» в номинации «Легенда сцены».
– Юрий Петрович, как театр будет отмечать юбилей?
– Отмечать будем только в театре, а официальных торжеств не предвидится. Чиновники нам сказали: «Вот когда полвека театру исполнится, тогда и отметим как следует». Они не празднуют 45 лет, но я отпраздную. На свои средства. Мне ведь скоро уже 92 года будет, и они надеются, что я помру… Я им обычно отвечаю, что буду к тому моменту в Иерусалиме, там живут больше 120 лет. Всю жизнь чиновники что-то запрещали, а потом все равно раздавали награды. Смотрите, как много их у меня, и даже значок за разминирование имею.
– Вообще вся ваша жизнь – как ходьба по минному полю…
– Возможно. Только хобби у меня другое – не мины искать, а строить театры. Когда я 45 лет назад из Театра Вахтангова пришел сюда, на Таганку, театр был в долгах, которые мне пришлось возвращать государству. Сколько же я должен своей родине, что с 14 лет работаю как лошадь, и все еще никак не отработал?.. Разрешили нам расширить здание Театра на Таганке – я 8 лет строил. Построил – меня выслали из страны. Я стал создавать театры в Европе, ставил спектакли. О том, что меня лишили советского гражданства, узнал между делом в Лондоне. Когда в Советском Союзе наступили перемены, Горбачев начал уговаривать меня вернуться. Я поверил, но едва начал работать, у меня стали отнимать пристроенную часть театра. И отняли. Так что хобби у меня – строить театры, которые отбирают. Вот у нас на столе стоит вино – давайте выпьем за то, что пока еще не отобрали помещение, в котором мы с вами находимся.
– В советское время вы обнажали трагедию дня, делали, как говорят, «политический театр».
– Вообще-то я старался обнажать женщин, а не трагедию. Я не политик, я хотел делать театр таким, каким он должен быть. А мне пришили, будто я продолжаю традиции политического театра, это не правда. Я в фойе повесил портреты Брехта, Мейерхольда и Станиславского. И когда пришло начальство, оно сказало: «Мейерхольда снять». Хотя в ту пору он был уже реабилитирован. Я говорю: «Залезайте и снимайте сами, а я на вас посмотрю». В другой раз пожарники хотели затоптать Вечный огонь, который горел в спектакле «Павшие и живые». Это было в 1965 году, когда еще не горел огонь у Кремлевской стены. Я сказал: «Попробуйте, топчите...» Когда на спектакль пришли первые зрители и мы зажгли этот огонь, весь зал встал минутой молчания. Тогда генерал пожарной службы, прослезившись, подошел ко мне и сказал: «Пусть горит, я беру огонь на себя». И добавил: «Коньяк у тебя есть?» – «Есть». – «Пойдем помянем». И он ради спектакля забыл о противопожарных правилах и документах. Вот когда наши чиновники поймут, что в искусстве слово человека важнее вшивой бумажки, тогда хоть что-нибудь произойдет положительное. Например, поднимется уровень жизни. А пока наше общество напоминает мне худую корзинку, которая плывет по реке…
– Надежда, что пришли иные времена, – иллюзия?
– Какие иные? Почему каждому поколению кажется, что наступили некие «иные» времена? А не кажется ли вам это какой-то забавой детской? Пока что мы все время идем по кругу, как слепые лошади, нам еще лет пятьдесят нужно, чтобы очухаться после того, как страна изменила систему существования. Я знаю, что говорю, потому что в капиталистических странах работал много лет, а тут – ни то, ни се пока, дилетантство. Заметьте, что я говорю только о своем театре, не затрагивая высших сфер. Поймите, нельзя все время заниматься самодеятельностью, тем более что со вкусом у нас дела очень плохо обстоят.
– Вы всегда говорите то, что думаете. Никогда не врали?
– Но почему я должен врать? Я считаю вообще, если много врешь, то обязательно тебя поймают. Говори как есть, и тебя не запутают. Это ведь от отчаяния Дмитрий Шостакович говорил: «Я подпишу любую бумагу, только бы они от меня отстали». Он просто ужасно боялся гэбистов. Ночью с чемоданчиком выходил к лифту и ждал, когда за ним придут: не хотел, чтобы этот арест был при детях и при жене. Представляете, как довели гениального человека?! Что ему оставалось делать? Выбегать и говорить: «Да, вы правильно меня травите, я сознаюсь во всех грехах. Спасибо, что открыли мне глаза»? А когда ему позвонил Сталин и сказал: «Поезжайте в Америку, покажите им, какие у нас есть композиторы», Шостакович ответил: «Я не могу, мне Репертком запретил выступать». И Сталин прикидывался по телефону: «Ре-перт-ком? Кто это такой? Мы его накажем». Притворялся, будто это фамилия.
– Ваше отношение к Сталину очевидно, и при этом вы играете его в «Шарашке». В последние годы изменилось отношение зрителей к этому герою?
– Да, изменилось. И если в зале оказываются сталинские поклонники, то я вижу, что их разочаровываю: они ощущают себя толпой, с которой этот вождь обращается с презрением.
– Не свистят?
– Они хлопают мне, а не свистят, правда, хлопают порой в самых непредсказуемых местах. А вообще у нас зритель приличный: все-таки отцы, дети, внуки – три поколения сюда уже ходит, и зал всегда полный. Солженицын все хотел все приехать на репетиции «Шарашки», но, к счастью, прибыл только на спектакль. Он, правда, спросил: «А как вы сумели уложить две книги в один вечер?». Я ответил: «А просто, Александр Исаевич, я отобрал лучшее».
– Почему сейчас не возникает таких мощных театров, как тот, который создали вы?
– А вы успеваете все спектакли во всех театрах посмотреть? Я, например, хожу только по наводке. Мощный театр редко рождается, вот и все. Разве все время приходят в мир Шекспиры, Чеховы? Разве всегда был театр Эсхила, театр Софокла, театр Мольера?
– Может, просто «лицом к лицу лица не увидать»?
– Я эту цитату вашу принимаю. Может, и так. История расставит все по своим местам – история, но не мы, потому что мы-то чаще всего ошибаемся. Вот вам доказательство: когда товарищ-злодей Сталин насильно оставил в Советском Союзе академика Капицу, ученый заявил: «Никаких секретностей соблюдать не буду, я работаю для мировой науки». А этот хитрый, злой хозяин сказал: «Пусть работает», понимая, что в таком случае Капица будет работать и на Советское государство. Поэтому, видимо, Сталин сейчас имеет такую популярность. Вообще я поражаюсь этому безобразию в мозгах. Я прошел две войны. «Коктейль Молотова» в руках держал, знаю, как примерзает к волосам каска. Мой род пострадал, начиная от моего дедушки, который еще был крепостным крестьянином. Чего же всё обирают-то своих? Что же мы за люди, что берем, и все время своих разоряем? И убиваем. Вот куда надо направить мозги, если они есть. Вот о чем надо думать.
– Юрий Петрович, Россия столько веков стремится к свободе, но никак не придет? Почему?
– Надо сперва выяснить, куда она стремится. Ведь не так уж давно Александр II отменил крепостное право. Моего 86-летнего деда новая власть выкинула в снег за то, что обзавелся своим хозяйством. И что – мне любить эту власть, которая издевалась над дедом, над отцом, над матерью, которой я, будучи 9-летним мальчиком, вез передачу в тюрьму города Рыбинска? Когда в России начнут понимать, что есть руководители, а есть исполнители – тогда будет толк. Пока же у нас даже актеры не понимают, что их профессия – исполнительская. Есть известная история о том, как уже глухого Остужева спросили: «Как же вы так чудесно играете? Как слышите, будучи глухим?», а он ответил: «Я хорошо играю, потому что не слышу партнера. А текст я весь выучил». Вот что такое гениальная актерская игра.
– К театральной реформе как относитесь?
– Как можно относиться к безобразию? При всех этих нововведениях у меня, художественного руководителя театра, прав стало меньше, чем у продавца в ларьке. Даже при советской власти, которую я терпеть не могу, у меня были какие-то средства хотя бы на похороны. Сейчас я могу распоряжаться только премиальными – теми деньгами, что театр заработал сверх обычной прибыли. Но вся трагедия в том, что артисты вместо работы будут обсуждать недели две, какую кому я дал премию. Меня это не удивляет: во все времена артисты признавали только себя.
– В течение всей жизни вам приходилось драться за каждый спектакль. Судьба так распорядилась, что вы сами росли на Таганке, и первые драки случились у вас тоже здесь.
– Про одну драку расскажу. Я тогда учился в фабрично-заводском училище, и, как многие, носил фиксу, брюки клеш. Однажды меня, 15-летнего пацана, поймала шпана: по каким-то приметам я был похож на их врага. От первого же удара глаз заплыл, вторым – вышибли два зуба. К моему счастью, на пути попалась пустая ниша, из которой кто-то стащил статую: я втиснулся в это тесное пространство, и спина у меня была под защитой стены. Пригодился бокс, которому меня научил один англичанин: я отбился и побежал. Среди белого дня нападавшие кидали в меня булыжниками – к счастью, не попали. На бегу я схватил обрезок трубы и хватил этой железякой по хребту догнавшего меня хулигана. Он упал, погоня на секунду остановилась, а я запрыгнул в «букашку», который как раз шел по кольцу. Пассажиры замерли: стоит на площадке парень, весь в крови, да еще с железякой... Я отлежался дома и, когда все зажило, достал у приятеля пистолет «монтекрист», финку и пошел в ФЗУ, решив резать и стрелять, если они нападут еще раз.
– И вы их встретили?
– Да, они хотели похлопать меня по плечу: мол, прости, ошиблись. Но моя реакция была мгновенной: я левша, поэтому левой ударил. Он сказал, помню: «Ну все, теперь пришибем». Тогда-то я и вытащил финку и пистолет. С тех пор никто меня не трогал.
– О преемнике думаете?
– Да нет. Можно помощником быть, но заменить… Однажды, вы, наверное, знаете эту историю, в театре «Летучая мышь» на сцену вышел конферансье и сказал: «Несколько минут назад скончался выдающийся художник Багратионов». С галерки заорали: «Ничего, заменим». А он ответил: «Как жаль, что вы не заменили его несколько минут назад».
– То есть о будущем любимовской школы вы не задумываетесь?
– А зачем? Мне довольно того, что в других странах меня изучают. Я даже удивился однажды на встрече со студентами их театроведческим вопросам, а один довольно сердитый ученик парировал: «Нам еще экзамен о вас сдавать!»
– Так ведь История вершилась вашими руками. Взять хоть тот случай, когда вы предупреждали первого секретаря горкома Гришина, что на похоронах Высоцкого может начаться ходынка.
– Он тогда сказал: «Вы преувеличиваете», а я ответил: «Вы недооцениваете». Они хотели быстро похоронить Высоцкого, но не вышло: от Кремля шли люди прощаться. И вот тут они ко мне обратились: «Что делать?». Я сказал: «Позвольте людям проститься. Это по христианскому обычаю – чтобы был открытый гроб, и люди могли проститься». Вся площадь перед театром была в цветах. А они начали смывать цветы с мостовых поливочными машинами. И выламывать его портрет с фасада театра. Толпа орала «Фа-ши-сты! Фа-ши-сты!». Эти кадры обошли весь мир.
– А что за история, когда рабочие на руках несли автобус, в котором был Высоцкий?
– Мы гастролировали на Дальнем Востоке. Владимир забрался на крышу автобуса, чтобы его было слышно всем, но народу было слишком много. И тогда солдаты действительно внесли на холм этот автобус – так он и играл.
– Про Высоцкого по-прежнему сегодня много пишут.
– Просто эксплуатируют его имя – чем-то же они должны питаться, эти газетенки. Вот и питаются именами, потому так и называются – бульварные.
– А вас не печалит, что сегодняшнее, молодое поколение Высоцкого уже не очень знает?
– А зачем им это? Они даже Пушкина не знают, не то что Высоцкого. Но справедливости ради скажу, что есть и умные дети. Один педагог принес мне сочинения своих учеников, которые пишут о спектакле «Суффле». Не зная теории, не зная всех абсурдистов, не зная Джойса, они строят такие гипотезы, что в них и Кант, и Беккет. Значит, детям интересно, ведь насильно такое написать не заставишь. А с другой стороны, когда я ставил «Преступление и наказание», в фойе театра стояла парта, на которой лежала стопка настоящих школьных сочинений о Раскольникове. Убийственные были тексты: о том, что он положительная фигура и правильно старушку пришиб. Вот эти школьники и выросли. Вот теперь и хлебайте.
– Не знаешь, смеяться или плакать. Вы сами часто плачете от смеха?
– Чаще всего у меня слезы от смеха выступают в самое неподходящее время. И вот ржу до слез, а вокруг все удивляются, и мне приходится объяснять: «Когда вы говорите о Мусоргском, я так восхищаюсь им, что начинаю плакать». Или: «Вы знаете, когда говорят о фашизме, я начинаю плакать». Однажды я стал так хохотать, когда мой бывший директор на гастролях в Болгарии с гордостью в голосе зачитывал исторический документ перед аудиторией, состоявшей из крупнейших чиновников. И вот он обращается к ним, да еще и по бумажке: «Проклятые фашисты! До каких же пор вы будете поганить святую землю?» И я как начал хохотать! К счастью, погода была хорошая, я выскочил на улицу и обхватил дерево, чтобы не упасть. А за мной, оказывается, побежал один из чиновников. Тут я ему и говорю: «Когда слышу про фашизм – я плачу», и начинаю уже просто сползать по дереву вниз от хохота. Кстати, фамилия чиновника была Огурцов. Вот это и Гоголь, и Салтыков-Щедрин вместе взятые.
– Вы чувствуете себя легендой?
– Я чувствую себя загнанным старым волком. Вот и все.
|