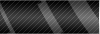Согласно исследованию Д. Молдавского, имя подземного духа Вия возникло у Гоголя в результате контаминации имени мифологического властителя преисподней «железного» Ния и украинских слов: «Вирлоокий, пучеглазый» (гоголевский «Лексикон малороссийский»), «вiя» – ресница и «повiко» – веко (см.: Молдавский Д. «Вий» и мифология XVIII века//Альманах библиофила. Вып. 27. М., 1990. С. 152-154). С именем Вия связано, очевидно, и еще одно слово гоголевского «Лексикона малороссийского»: «Вiко, крышка на диже или на скрыне». Вспомним «дижу» в «Вечере накануне Ивана Купала» – гуляющую «вприсядку» по хате огромную кадку с тестом – и «скрыню» в «Ночи перед Рождеством» – окованный железом и расписанный яркими цветами сундук, изготавливаемый Вакулой на заказ красавице Оксане. (Ср. в черновой редакции девятой главы первого тома «Мертвых душ»: «...гостья (...) очутилась в ситцевом платье модного [узора и] цвета, натянутом без малейшей морщинки на роскошную шнуровку [как медный панцырь] [пузырь], как латы, и заключавшую в себе полную грудь ее, как в большом сундуке». И в выписке Гоголя из письма матери от 4 июня 1829 г. «О свадьбах малороссиян», где речь идет о приготовлении свадебного каравая: «Коровай делают на диже, а по-ихнему на вики (...) содят его без крышки в печь, а вико надевают на дижу».)
Мотив мести Хоме ведьмы-панночки – как воплощение «угнетенных» сил падшей природы (ср. в «Вие»: «...с треском лопнула железная крышка гроба...»), – очевидно, также был почерпнут Гоголем из письма к нему матери. В гоголевской записной книге 1831-1834 гг. имеется отрывок из ее письма следующего содержания: «Еще один обряд у малороссиян. На масляной, в четверг, всегда бывает женский праздник, называемый Власьем, хотя и никогда не бывает тогда сего святого имени; и жинки бьют своих чоловиков дныщами, чтобы они их целой год не были» /…/. Ср. о жене Тараса Бульбы: «Она терпела оскорбления, даже побои...» («египетские казни», согласно строкам черновой редакции повести /…/).
Существенное значение для понимания повести имеет также архитектура изображаемого здесь храма – деревянного, «с тремя конусообразными куполами» – «банями». Это традиционный южнорусский тип трехчастной старинной церкви, чрезвычайно широко распространенный на Украине и в свое время являвшийся для нее господствующим. Подобный же храм угадывается у Гоголя в «Ночи перед Рождеством» /…/, о нем он упоминает и в описании светлицы Тараса Бульбы /…/. О широком распространении подобного типа храмов на родине Гоголя можно судить из составленного в конце прошлого века по клировым ведомостям П. Мартиновичем и B. Горленко списка «Церкви старинной постройки в Полтавской епархии» /…/ Строительство деревянных храмов было запрещено на Украине во избежание пожаров указом российского правительства от 25 декабря 1800 г. /…/. Об этом указе упоминает в своей «Автобиографической записке» мать Гоголя: «В деревне нашей не было церкви. Свекор наш хотел было купить старую и перевезти в Васильевку, но скоро после того запретили строить деревянные, и намеренье то гораздо прежде моего замужества было оставлено» /…/. (В 20-х годах в Васильевке по обету, данному матерью Гоголя, была построена каменная церковь.)
В литературе, однако, встречаются упоминания, что трехчастные деревянные храмы на Украине были по преимуществу церквями униатскими /…/. Некоторые авторы говорят даже 6 существовании синодального запрета 1801 или 1803 г. строить церкви «в украинском стиле» /…/.
С этим прямо перекликается одно, давно, уже сделанное исследователями наблюдение – что завязнувшие в окнах и дверях церкви гномы «Вия» определенно соотносятся с химерами готических храмов /…/.
Кстати, носящий «римское» имя главный герой повести – Хома Брут – воспитанник Братского монастыря, бывшего одно время униатским /…/.
Еще одна «католическая» примета в «Вие» проступает в противопоставлении здесь ветхого иконостаса (с потемневшими, «мрачно» глядящими ликами святых) «страшной, сверкающей красоте» ведьмы, – гроб которой был поставлен «против самого алтаря». (О вытеснении и замещении «иконостаса» земной красотой в католической живописи уже говорилось в комментарии к «Ночи перед Рождеством».) Не будет безосновательным, предположить, что и сам образ мертвой красавицы был навеян Гоголю «католическим» источником – именно картиной К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» с прекрасной мертвой женщиной на переднем плане, к образу которой Гоголь неоднократно возвращается в своей посвященной картине Брюллова статье с одноименным названием (еще более брюлловская погибшая красавица – с «ребенком, вонзившим в зрителя взор свой», – угадывается в мертвой женщине с младенцем, которую видит Андрий Бульба на площади осажденного Дубно). Примечательно, что в статье «Последний день Помпеи» Гоголь прямо отмечает несовместимость римокатолической живописи Брюллова с искусством иконописи: «...женщина его блещет, но она не женщина Рафаэля, с тонкими, незаметными, ангельскими чертами, она женщина страстная (...) У него нет (...) того высокого преобладания небесно-непостижимых и тонких чувств, которыми весь исполнен Рафаэль». Заметим, что Рафаэль избран здесь Гоголем не столько в качестве окончательного образца, сколько лишь как ближайший для сравнения более высокий тип – более понятный людям, не способным воспринять большего, – в этом характернейшая черта «снисхождения» Гоголя к своему читателю, – сам же он прекрасно знает о действительном «образце» иконы – превосходящем всякое западное искусство византийском образе /…/. Объясняя позднее в статье «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» значение светского искусства, Гоголь писал: «Развлеченный миллионами блестящих предметов <...> свет не в силах встретиться прямо со Христом. Ему далеко до небесных истин христианства. Он их испугается, как мрачного монастыря...» Такими именно – «мрачными» – в сравнении с ослепительным «блеском» красавицы ведьмы – и предстают Хоме Бруту лики святых в хуторском храме.
Для понимания гоголевского замысла существенно также заметить, что слово «гном» Гоголь употребляет в «Книге всякой всячины» в значении «знак»: «Следующими гномами изображают вес аптекарский...» /…/. См. также в «Страшной мести» подчеркнутое – дважды обнаруживаемое – соседство «светящихся по стенам чудных знаков» и мелькающих по тем же стенам «нетопырей» при описании «светлицы» колдуна. Гоголевские «знака» в «Вие» нуждаются еще, таким образом, в своей расшифровке /…/.
Приведем большой отрывок с описанием «гномов», снятый Гоголем в 1842 г. при переиздании повести в его «Сочинениях»: «Он, потупив голову, продолжал заклинания и слышал, как труп опять ударил зубами и начал махать рукой, желая схватить его. Возведши робкий взгляд на него, он заметил, что он ловил совершенно не там, где он стоял, и что труп не мог его видеть. Неуспех, казалось, приводил мертвую в бешенство. Она хлопнула зубами и, ставши на середину, опять топнула своею ногой. Этот звук раздался совершенно беззвучно; уста ее искривились и, казалось, произносили какие-то невнятные слова. И философ услышал, что стены церкви как будто заныли. Странный ропот и пронзительный визг раздался над глухими сводами; в стенах окон слышалось какое-то отвратительное царапанье, и вдруг сквозь окна и двери посыпалось с шумом множество гномов, в таких чудовищных образах, в каких еще не представлялось ему ничто, даже во сне. Он увидел вдруг такое множество отвратительных крыл, ног и членов, каких не в силах бы был разобрать обхваченный ужасом наблюдатель! Выше всех возвышалось странное существо в виде правильной пирамиды, покрытое слизью. Вместо ног у него было внизу с одной стороны половина челюсти, с другой другая; вверху, на самой верхушке этой пирамиды, высовывался беспрестанно длинный язык и беспрерывно ломался на все стороны. На противоположном крылосе уселось белое, широкое, с какими-то отвисшими до полу белыми мешками вместо ног; вместо рук, ушей, глаз висели такие же белые мешки. Немного далее возвышалось какое-то черное, все покрытое чешуею, со множеством тонких рук, сложенных на груди, и вместо головы вверху у него была синяя человеческая рука. Огромный, величиною почти со слона, таракан остановился у дверей и просунул свои усы. С вершины самого купола со стуком грянулось на средину церкви какое-то черное, всё состоявшее из одних ног; эти ноги бились по полу и выгибались, как будто бы чудовище желало подняться. Одно какое-то красновато-синее, без рук, без ног протягивало на далекое пространство два своих хобота и как будто искало кого-то. Множество других, которых уже не мог различить испуганный глаз, ходили, лежали и ползали в разных направлениях: одно состояло только из головы, другое из отвратительного крыла, летавшего с каким-то нестерпимым шипеньем. Хома зажмурил глаза и не имел духу уже взглянуть. Он слышал только, что весь этот сонм ищет его и прерывающимся голосом, собрав все, что только знал, читал свои заклинания. Пот ужаса выступил на его лице. Ему казалось, что он умрет от одного только страха, когда нога какого-нибудь из этих чудовищ прикоснется до него отвратительною своею наружностью. Уже он видел, как одно из чудовищ протянуло свои длинные хоботы и уже один из них Проникну л за черту... Боже... Но крикнул петух: всё вдруг поднялось и полетело сквозь двери и окна».
В 1842 г. было совершенно переделано также окончание повести, которое в первом издании «Миргорода» читалось так: «Вдруг... среди тишины... он слышит опять отвратительное царапанье, свист, шум и звон в окнах. С робостию зажмурил он глаза и прекратил на время чтение. Не отворяя глаз, он слышал, как вдруг грянуло об пол целое множество, сопровождаемое разными стуками глухими, звонкими, мягкими, визгливыми. Немного приподнял он глаз свой и с поспешностию закрыл опять: ужас!., это были все вчерашние гномы; разница в том, что он увидел между ими множество новых. Почти насупротив его стояло высокое, которого черный скелет выдвинулся на поверхность и сквозь темные ребра его мелькало желтое тело. В стороне стояло тонкое и длинное, как палка, состоявшее из одних только глаз с ресницами. Далее занимало почти всю стену огромное чудовище и стояло в перепутанных волосах, как будто в лесу. Сквозь сеть волос этих глядели два ужасные глаза. Со страхом глянул он вверх: над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них клоками. С ужасом потупил он глаза свои в книгу. Гномы подняли шум чешуями отвратительных хвостов своих, когтистыми ногами и визжавшими крыльями, и он слышал только, как они искали его во всех углах. Это выгнало последний остаток хмеля, еще бродивший в голове философа. Он ревностно начал читать свои молитвы. Он слышал их бешенство при виде невозможности найти его. «Что, если, – подумал он вздрогнув, – вся эта ватага обрушится на меня?..»
«За Вием! пойдем за Вием!» – закричало, множество странных голосов, и ему казалось, как будто часть гномов удалилась. Однако же он стоял с зажмуренными глазами и не решался взглянуть ни на что. «Вий! Вий!» – зашумели все; волчий вой послышался вдали и едва, едва отделял лаянье собак. Двери с визгом растворились, и Хома слышал только, как всыпались целые толпы. И вдруг настала тишина, как в могиле. Он хотел открыть глаза; но какой-то угрожающий тайный голос говорил ему: «Эй, не гляди!» Он показал усилие... По непостижимому, может быть происшедшему из самого страха, любопытству глаз его нечаянно отворился:
Перед ним стоял какой-то образ человеческий исполинского роста. Веки его были опущены до самой земли. Философ с ужасом заметил, что лицо его было железное, и устремил загоревшиеся глаза свои снова в книгу.
«Подымите мне веки!» – сказал подземным голосом Вий – и все сонмище кинулось подымать ему веки. «Не гляди!» – шепнуло какое-то внутреннее чувство философу. Он не утерпел и глянул: Две черные пули глядели прямо на него. Железная рука поднялась и уставила на него свой палец: «Вот он!» – произнес Вий – и всё что ни было, все отвратительные чудища разом бросились на него... бездыханный, он грянулся на землю... Петух пропел уже во второй раз. Первую песню его прослышали гномы. Все скопище поднялось улететь, но не тут-то было: они все остановились и завязнули в окнах, в дверях, в куполе, в углах и остались неподвижно... В это время дверь отворилась и вошел священник, прибывший из отдаленного селения для совершения панихиды и погребения умершей. С ужасом отступил он, увидев такое посрамление святыни, и не посмел произносить в ней слова Божьего.
И с тех пор так все и осталось в той церкви. Завязнувшие в окнах чудища там и поныне. Церковь поросла мохом, обшилась лесом, пустившим корни по стенам ее; никто не входил туда и не знает, где ив какой стороне она находится».
Полвека назад Н. Л. Степановым был обнаружен экземпляр «Миргорода» 1835 г., в котором повесть «Вий» этими словами и заканчивалась, а к следующей «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» имелось отсутствующее во всех других экземплярах предисловие /…/. Появление нового окончанья к «Вию» (разговор богослова Халявы с Тиберием Горобцом об участи Хомы) взамен снятого предисловия к следующей «Повести...», а также появление самого этого предисловия вызвано было, как показывает анализ типографских знаков различных экземпляров «Миргорода», в первую очередь внешней, технической причиной – оставшимся незаполненным при наборе «лишним» листом. Между набранной прежде с печатного текста «Повестью...» и набиравшимся затем с рукописи «Вием» возник «пробел», который Гоголь попытался заполнить сначала указанным предисловием, а затем написал окончание «Вия».
Тогда же Гоголь заметил в «Вие» одну «погрешность», о которой счел нужным сказать тут же в особом примечании: «В сей повести, по неосмотрительности, пропущена половина страницы, объясняющая, каким образом бурсак узнал в сотниковой дочери ведьму, приходившую к нему в виде старухи». Однако эту «погрешность» он успел тогда же исправить, почему в 1842 г. это примечание им было снято.
Действительно, в уникальном экземпляре «Миргорода» Хома даже «не хотел и взглянуть» на упавшую перед ним после полета ведьму, в то время как наутро, попав в дом сотника и не видев еще умершей, уже размышляет: «...с этой ведьмой плохо связываться...» (после разговора с сотником он также говорит: «...да, хорошо, что я заперся и ничего не сказал о том, что было с ведьмой», – виновато боясь при этом взглянуть в лицо умершей).
Все это Гоголь в дальнейшем последовательно исправляет: после полета – «взглянул» на ведьму; наутро, в доме сотника, еще не видев умершей, недоумевает: «Почему же именно я должен читать…»; а взглянув на умершую и узнав ее, восклицает: «А! так вот почему она заставила читать меня!» (реплика после разговора с сотником и описание виноватой боязни взглянуть в лицо умершей вообще снимаются). Анализ, таким образом, развеивает утверждение Б. М. Эйхенбаума, комментатора повести в академическом «здания сочинений Гоголя (1937), что гоголевская заметка «Погрешность» не подходят к первоначальному тексту «Вия» (уникальному экземпляру). Из слов Хомы известно, что он «узнал в сотниковой дочери ведьму», но «каким образом», откуда он это знает, в повести не «объясняется». В.А. Воропаев. И.А. Виноградов
|