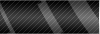...Все стены были увешаны этими ужасными портретами, устремившими на него свои неподвижные живые глаза.
Гоголь.
 "Портрет" (1-ая редакция) "Портрет" (1-ая редакция) Захожу в кабинет редактора - над его головой висит портрет Белинского. Трудно понять, что же общего между "неистовым" Виссарионом и этим осторожным чиновником. Почему вся эта канцелярская рать, орудующая ножницами, как гильотиной мыслей и слов, прикрывается, точно иконой, бледным ликом святого подвижника и мученика идеи?
Правда, Иосиф Виссарионович, как ценитель всего изящного и передового, считался по этой линии прямым наследником Виссариона Григорьевича. Но ведь давно известно, что завещание оказалось подложным. Разве мог Белинский завещать нашим критикам такую волшебную дубинку, которая сшибала бы писателям головы с плеч и сажала бы на их место головы самих критиков? Чтобы, например, у Маяковского вырастала вдруг голова Владимира Ермилова, а у Пушкина - голова Дмитрия Благого, и чтобы ноги двигались туда, куда голова захочет; а голова, конечно, гордилась бы своими быстрыми ногами, горячим сердцем и глубоко дышащей грудью.
Попробуем только представить себе... Если наш редактор или критик говорит как бы от имени Белинского, то пусть к нему придет на прием писатель, допустим, в образе Гоголя. Приходит такой Гоголь к такому Белинскому и хочет узнать, что же уважаемый критик думает о его повести "Портрет". Выношенной, выстраданной, программной, над которой писатель "мучил себя, терзал всякий день". И очень старался, чтобы его повесть, предназначенная для журнала "Современник", оказалась бы "во многих отношениях современной" и была бы заслуженно напечатана в этом знаменитом журнале.
И вот наш как бы Белинский, от имени журнала "Современник" и с точки зрения высоко понятой современности, стал бы с пристрастием разбирать эту вещь, уже истерзавшую писателя и потому достойную всяческого возмездия. Он продумал бы свой отзыв и, вооружившись гегелевской триадой, изложил бы его в трех пунктах.
Сначала, прощупав произведение по косточкам, особенно повозившись в области шейных позвонков, он извлек бы из него мысль писателя, которая была бы вполне достойна помещаться в голове самого критика, и назвал бы эту мысль "прекрасною", отчего наш Гоголь зарделся бы и потупился. Вспомнив изящную манеру своего великого предшественника, наш Белинский сказал бы примерно так:
"Мысль повести была бы прекрасна, если б вы поняли ее в современном духе: в Чарткове вы хотели изобразить даровитого художника, погубившего свой талант, а следовательно и самого себя, жадностью к деньгам и обаянием мелкой известности". Таков первый пункт: наш критик отделяет мысль от произведения и высказывает ей лестную похвалу, но уже с предостерегающей оговоркой, в условном наклонении: "если бы вы поняли ее в современном духе". Тут уже начинается мистика: наш бедный Гоголь н е п о н я л с в о е й с о б с т в е н н о й м ы с л и, причем не понял ее именно в современном духе. Чья же тогда эта мысль, и притом прекрасная, если сам писатель ее не понял? Предполагается некое раздвоение в голове писателя, позволяющее нашему критику постепенно насадить ему свою голову, в которой мысль писателя, не понятая им самим, понимается уже вполне современно. И дальше критик, уже из своей головы, приставленной к безмозглому телу стихийного дарования, объясняет писателю, что же, собственно, он х о т е л сказать, хотя и не сумел: "в Чарткове вы хотели изобразить..."
Теперь, посадив писателю свою умную голову, но оставив ему живописный талант, наш критик переходит ко второму пункту: как нужно было бы написать это неудавшееся произведение, чтобы оно было достойно столь большого таланта и вместе с тем выражало прекрасную мысль самого критика. Наш Белинский, следуя реалистическим заветам своего великого предшественника, сказал бы примерно так:
"Выполнение этой мысли должно было быть просто, без фантастических затей, на почве ежедневной действительности: тогда вы со своим талантом создали бы нечто великое". Оказывается, что для воплощения той мысли, которая помещалась в голове критика, писателю нужно было бы подыскать и другую форму. Раз Чартков погубил свой талант жадностью к деньгам, то писатель и должен был бы развернуть этот сюжет во всей прозе пошлой действительности, иначе он, уже автор, а не герой, губит свой талант погоней за фантазиями и обаянием мелкой вычурности. Чтобы разоблачить художника чересчур прозаического и меркантильного, никак нельзя быть художником чересчур мечтательным и романтическим, а нужно быть поближе к тому, что изображаешь. Передав нашему Гоголю свою мысль, наш Белинский затем потребовал бы от него соблюдать эту мысль во всей строгости: раз вы хотели изобразить художника, погубившего свой талант жадностью к деньгам, то уж извольте обойтись без всякой мистики и фатализма, а покажите нам, на почве ежедневной действительности, как он продает свою кисть. Вот почему сцена с квартальным, его пошло-скучные рассуждения об искусстве - вполне уместны в повести, а страшный ростовщик и его таинственный портрет - это все, как сказал бы наш критик, детские фантасмагории, которые могли пленять и ужасать людей только в невежественные средние века, а для нас они не занимательны и не страшны, просто скучны...
И далее наш редактор перешел бы к третьему пункту, уже прямо оценивая предложенное произведение. По правде сказать, осталось бы от него совсем немного. Раз мысль уже извлечена во всем своем современном значении (1 пункт) и далее показан верный путь ее воплощения (2 пункт), то само произведение оказывается поучительным образчиком того, как н е с л е д о в а л о воплощать эту прекрасную мысль:
"Не нужно было бы приплетать тут и страшного портрета с страшно смотрящими живыми глазами, не нужно было бы ни ростовщика, ни аукциона, ни многого, что вы почли столь нужным, именно оттого, что отдалились от современного взгляда на жизнь и искусство". Вот так наш новоявленный Белинский разделался бы с повестью несчастного Гоголя и потребовал бы создать третью по счету редакцию, потому что повесть уже и раньше переделывалась по его совету, освобождаясь автором от чересчур мистического колорита. В первой редакции портрет сам собой таинственно возникал на стене, а во второй художник покупал его в обыкновенной лавке и под мышкой приносил домой. Но теперь понадобилось бы и вовсе исключить этот фантастический предмет из современного обихода, как не соответствующий программным установкам журнала "Современник".
В общем, чтобы "Портрет" оказался достойным своего замысла и таланта автора, в нем не должно быть самого портрета, а также ростовщика, изображенного на портрете, а также аукциона, на котором продается портрет и разъясняется его тайна, - всего этого не нужно. А нужно, чтобы остался один художник, продающий за деньги свой талант, и обличение общества, которое своим торгашеским духом губит прекрасные дарования. И тогда повесть можно было бы озаглавить как-нибудь иначе, например, "Дух наживы" или "Растление молодого таланта", чтобы мысль выразилась прекраснее и современнее. А впрочем, название "Портрет" можно было бы оставить, имея в виду правдивый и типический портрет художника, растратившего свой талант созданием заказных портретов, - портрет, выполненный по заказу самого времени рукою писателя, развившего свой талант живописанием духа наживы.
Вот к какому выводу подвел бы нас редактор, сидящий под портретом Белинского, и, конечно, от имени журнала "Современник" отверг бы эту повесть - или оговорил бы условие, чтобы в этом "Портрете" не осталось бы ничего от самого портрета и его странной истории, столь чуждой трезвому духу современности. Так бы он разложил все достоинства повести, чтобы прекрасную мысль взять себе, правду жизни передать современности, огромный талант оставить художнику, а повесть выбросить в мусорную корзину до очередной редакции. И все остались бы на своих местах: писатель при таланте, редактор при идее, жизнь при своем верном спутнике - жизнеподобии, а рукопись - при той бумаге, на которой была написана.
Или - страшно представить - Гоголь достал бы рукопись из корзины, разгладил, принес домой и написал бы третью редакцию, под которой уже смело мог бы подписаться и сам редактор. И живой дух покинул бы писателя в тот миг, как "Дух наживы" стал бы издаваться в тысячах экземпляров, неся современникам мысль, понятую "в современном духе". И портрет, исчезнувший по сюжету из гоголевской повести, вдруг нашелся бы совсем рядом и подмигнул нашему Гоголю из-за головы редактора: ты меня выбросил, а я вон где. И уже не червонцы по лунным ночам считаю, а при ясном свете разума веду счет идейным победам.
Гоголь так убедил нас во всемогуществе своего ростовщика, что кажется, и со многих других портретов, украшающих стены редакторских кабинетов, глядят все те же неотразимые, неподвижные глаза, "как бы готовясь сожрать" бедного одинокого автора - "на устах написано было грозное повеление молчать". Сколько тут, этих грозных портретов - не одних только неистовых, но и железных, и стальных, и любивших добро, и евших грибы, и черненьких, которых надо любить, и беленьких, которых всякий полюбит, и горьких с солеными слезами, и сладких от лунных чар, и некрасивых, и толстых, и ленивых, и достойных, и успевающих, и щедрых, и вороватых, и бережных... Есть среди них и великие, святые люди - но художник, один раз изобразивший ростовщика, уже не может ничьих других глаз показать на портрете. Помните, заказали ему картину для церкви, и всю душу вложил он в изображение святых лиц - да только потом было указано ему, и сам он с ужасом увидел, что "почти всем фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски сокрушительно, что он сам вздрогнул". Вот и автор, ждущий решения своей участи в редакторском кабинете, вздрагивает от этих живых глаз, устремленных на него отовсюду, как будто не рукопись пришел он сюда продать, а собственную душу.
Ростовщик ростовщику рознь. Один покупает душу за деньги, другой - за власть над людьми, третий - за власть над умами. Поглядишь на портрет такого блаженной памяти властителя дум - и вдруг видишь глаза ростовщика... Нет, не стоило бы вешать в комнату никаких портретов - неизвестно еще, какая сила незаметно прикипела к их зрачкам и ворожит слабые человеческие души. "...С тех пор как повесил я к себе его в комнату, почувствовал тоску такую... точно как будто бы хотел кого зарезать... Чувствую, что не могу сказать никому веселого и искреннего слова: точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь". Не оттого ли редакторы так часто режут рукописи, что за их спинами висят эти важные портреты, глазами обращенные на автора и повелевающие ему молчать. Вот он и молчит; а редактор, сидя к портрету спиной и глаз его не видя, чувствует такую необъяснимую тоску, что режет подряд одного автора за другим...
При каждом редакторе висят за его спиной шпионы, стерегущие каждое слово, и оттого редко удается услышать в этих уютных кабинетах хоть что-нибудь искреннее и веселое. Только бедному молчаливому автору прямо в душу глядят значительные глаза, когда редактор сидит, отвернувшись, и режет рукопись; и автор вздрагивает от ужаса, а редактор только чувствует беспричинную тоску, и режет, режет. Чистые, святые люди - а глаза у всех одинаковые...
Страшно, страшно делается за Гоголя. Как бы и сам он, вослед Чарткову, не погубил свой талант, а следовательно и самого себя, жадностью к прекрасным мыслям и обаянием современного взгляда. И разве идеи в голове умного редактора менее опасны для дарования художника, чем деньги в руках богатого клиента? О, ростовщик знает, на какие обменные единицы лучше вести счет: на жаркие отблески презренного металла или на яркие отсветы исторических зорь в картине художника. Никто заранее не знает, что спрятано за рамкой портрета: стопка золотых червонцев или стопка наградных бумаг, золотых орденов, чиновных удостоверений. Идея - такая же абстракция власти над миром и всеобщий эквивалент разменных ценностей, как и ассигнация.
Кажется. что и сам Гоголь не скрывает своего таинственного родства с художником, портрет которого нарисовал в своей повести, вставив туда маленькое зеркальце, чтобы оно отсвечивало хоть одной черточкой самого автора. "...Он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению: черту не брат. Прошелся по тротуару гоголем..." Как нарочно, здесь сошлись самые приметные слова из знаменитой лирической сцены "Мертвых душ", где выразилась вся душа писателя, все, что он любит, и слова "живой", "бойкий", "русский", "черт" служат как бы опознавательным знаком родства автора поэмы с героем повести. "И какой же русский... черт побери все... у бойкого народа... наскоро живьем..." Да и "гоголь" не остался без отзвука в "птице-тройке" и ее неудержимом полете: "сам летишь, и все летит..." Гоголь не употреблял имен собственных понапрасну, тем более своего собственного имени, и ввел эту лирическую подробность только во вторую редакцию повести, писавшуюся тогда же (1841-1842) и там же (Рим), где лирически завершался первый том "Мертвых душ". Так что совпадение словаря далеко не случайно и выражает волну лирического мироощущения, словно бы перенесшую автора в это место повести из окончания поэмы.
К тому же Гоголь работал над второй редакцией повести отчасти по социальному заказу Белинского, разбранившего первую редакцию как "неудачную попытку Гоголя в фантастическом роде". Поэтому автор, переправляющий картину современной жизни по указанию критика, хотя и обратно тому, чего требовали от Чарткова его клиенты (Чартков должен был приукрасить, а Гоголь, напротив, прибеднить, выскоблить всякие украшения), вполне мог в нечаянный лирический миг почувствовать себя Чартковым, точнее, Чарткова - собой. Вот отчего герой так лихо, в предчувствии публичного одобрения и успеха, "гоголем" проходится по тротуару, ощущая удаль и бойкость "по русскому выражению: черту не брат". А ведь только что художник как раз и стал братом черту, скрепив с ним червонцами пожизненный и посмертный союз.
Кажется, что поговорка "черту не брат" как раз и означает братание с чертом, - таков обратный смысл некоторых выражений в русском языке. И этот братский союз, как и положено между членами одного семейства, скреплен фамильно, прикрываясь для скромности только подложной "а" и уменьшительной "к": Чертов получилось бы слишком зловеще, к тому же художник - братик меньшой, пусть будет с буквой "к". Так и именовался он в первой редакции: Чертков - пока Гоголь, снимая по требованию критика "налет чертовщины", не заменил одну букву для торжества реализма и не получился более бледноватый оттиск того же оригинала - Чартков.
Значит, Чартков в манере "гоголя" проходится по тротуару в тот самый момент, когда сам Гоголь, на манер Чарткова, переправляет свой "портрет" по требованию заказчика... Неужели автор, представший сейчас перед редактором, и дальше повторит судьбу своего персонажа? Все так же сидит он в просторном кабинете, и со стены смотрит на него все тот же помолодевший портрет... "Черты старика сдвинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать..."
Нет, хотя и вторая редакция была в современном духе забракована чутким общественным контролером, Гоголь не стал создавать третью. Более того, не пропала в редакторской корзине первая, в которой мысль выразилась яснее, чем во второй, хотя и не так прекрасно, как могла бы выразиться в третьей. И поскольку мысль эта относится ко всем портретам, наводящим тоску и желание кого-нибудь зарезать, - стоит воспроизвести это место из первой редакции, начисто выброшенное во второй, как слишком фантастическое:
"В этих отвратительных живых глазах удержалось бесовское чувство. Дивись, сын мой, ужасному могуществу беса. Он во все силится проникнуть: в наши дела, в наши мысли и даже в самое вдохновение художника. Бесчисленны будут жертвы этого адского духа, живущего невидно, без образа, на земле".
Не потому ли этому духу, живущему без образа, так хочется, чтобы с него писали портреты? И по той же причине портретам не нравится, когда угадывают тот дух, который в них изображен. Им хотелось бы скрыть исток и тайну своего изображения, чтобы жить на полотнах настоящей жизнью, выпрыгивать по ночам из рамы, забираться вглубь сновидений, чтобы днем, сталкиваясь с портретом, люди, как сомнамбулы, повторяли нашептанные им речи, чтобы повсюду сопровождали их и отовсюду встречали живые неподвижные глаза, "современным взглядом" впиваясь в душу художника. Не потому ли из вторых и третьих редакций "Портрета" начинает, по требованию редактора-реалиста, исчезать сам портрет - чтобы остаться над головой редактора и вечно смотреть оттуда все тем же немигающим взглядом, выражая прекрасные мысли о современности и грозно повелевая молчать о своем древнем могуществе и "бесчисленных жертвах"?
Впрочем, не слишком ли далеко мы зашли в своих предположениях, не слишком ли много фантастических затей в этом литературном опыте - и не косится ли из-за спины редактора на нас все тот же портрет? Вот сейчас подрежут одно, вырежут другое - я физически чувствую тоску, которую нагнало на редактора мое сочинение, мысль которого "была бы прекрасна... если бы вернулась на почву ежедневной действительности". Поэтому прочь домыслы - вернемся на эту самую историческую почву.
Нет, слава Богу, есть у нас настоящий, неподдельный Белинский, не заказной его портрет над головой редактора, а пламенные его статьи, выразительный автопортрет, писанный рукой самого критика, - полное собрание сочинений, где о том же самом "Портрете" написано совсем, совсем иначе, чем у нашего лже-Белинского. Тот Белинский не стал бы отделять мысль от произведения, не стал бы хвалить писателя за то, чего нет в его произведении, не стал бы требовать для выражения той же мысли совсем другого произведения. Отбросим все "как бы" и "если бы" - вот что писал великий критик о великом писателе:
"А мысль повести была бы прекрасна, если б поэт понял ее в с о в р е м е н н о м духе: в Чарткове он хотел изобразить даровитого художника, погубившего свой талант, а следовательно и самого себя, жадностию к деньгам и обаянием мелкой известности. И выполнение этой мысли должно было быть просто, без фантастических затей, на почве ежедневной действительности: тогда Гоголь с своим талантом создал бы нечто великое. Не нужно было бы приплетать тут и страшного портрета с страшно смотрящими живыми глазами...; не нужно было бы ни ростовщика, ни аукциона, ни многого, что поэт почел столь нужным, именно оттого, что отдалился от современного взгляда на жизнь и искусство". [1] Захожу в кабинет Белинского - над головой великого критика висит портрет будущего редактора.
1985
|