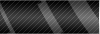Смерть Екатерины Михайловны Хомяковой, последовавшая после непродолжительной болезни 26 января 1852 года, угнетающе подействовала на Гоголя. На утро после первой панихиды он сказал Хомякову: "Все для меня кончено!" Тогда же, по свидетельству Степана Петровича Шевырева, друга и душеприказчика Гоголя, он произнес перед гробом покойной и другие слова: "Ничего не может быть торжественнее смерти. Жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было бы смерти". Смерть Екатерины Михайловны Хомяковой, последовавшая после непродолжительной болезни 26 января 1852 года, угнетающе подействовала на Гоголя. На утро после первой панихиды он сказал Хомякову: "Все для меня кончено!" Тогда же, по свидетельству Степана Петровича Шевырева, друга и душеприказчика Гоголя, он произнес перед гробом покойной и другие слова: "Ничего не может быть торжественнее смерти. Жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было бы смерти".
Екатерина Михайловна была сестрой одного из ближайших друзей Гоголя, поэта Николая Языкова. Она скончалась тридцати пяти лет от роду, оставив семерых детей. Смерть эта так тяжело отозвалась в душе Гоголя, что он не нашел в себе сил пойти на похороны.
Екатерина Михайловна Хомякова происходила из старинного рода симбирских дворян Языковых. Рано оставшись без отца, она жила с матерью, которая вела уединенный образ жизни. Сергей Нилус в книге "Великое в малом" рассказывает, что Екатериной Михайловной в ранней молодости был увлечен Николай Александрович Мотовилов (служка Божией Матери и Серафимов, как он впоследствии себя называл). На вопрос о ней преподобного Серафима, Саровского чудотворца, Мотовилов отвечал: "Она хоть и не красавица в полном смысле этого слова, но очень миловидна. Но более всего меня в ней прельщает что-то благодатное, божественное, что просвечивается в лице ее". И далее на расспросы старца Мотовилов рассказывал: "Отец ее, Михаил Петрович Языков, рано оставил ее сиротой, пяти или шести лет, и она росла в уединении при больной своей матери, Екатерине Александровне, как в монастыре - всегда читывала ей утренние и вечерние молитвы, и так как мать ее была очень религиозна и богомольна, то у одра ее часто бывали и молебны, и всенощные. Воспитываясь более десяти лет при такой боголюбивой матери, и сама она стала как монастырка. Вот это-то мне в ней более всего и в особенности нравится".
Надежда видеть Екатерину Михайловну своей женой не покидала Мотовилова вплоть до мая 1832 года, когда он сделал предложение (несмотря на предсказание преподобного Серафима, что он женится на крестьянке) и получил окончательный отказ.
В 1836 году Екатерина Михайловна вышла замуж за Алексея Степановича Хомякова и вошла в круг его друзей. Среди них был и Гоголь, который вскоре стал с ней особенно дружен. Издатель "Русского Архива" Петр Иванович Бартенев, не раз встречавший его у Хомяковых, свидетельствует, что "по большей части он уходил беседовать с Екатериною Михайловною, достоинства которой необыкновенно ценил". Дочь Алексея Степановича Мария со слов отца передавала, что Гоголь, не любивший много говорить о своем пребывании в Святой Земле, одной Екатерине Михайловне рассказывал, что он там чувствовал.
Едва ли когда-нибудь можно будет до конца понять, почему смерть Екатерины Михайловны произвела такое сильное впечатление на Гоголя. Несомненно, что это было потрясение духовное. Нечто подобное произошло и в жизни Хомякова. Об этом мы можем судить по запискам Юрия Федоровича Самарина, которые священник отец Павел Флоренский называет документом величайшей биографической важности: "Это чуть ли не единственное свидетельство о внутренней жизни Хомякова, притом о наиболее тонких движениях его души, записанное другом и учеником и вовсе не предназначавшееся для печати". Остановимся на данном свидетельстве, чтобы уяснить, какое значение смерть жены имела для Хомякова.
"Узнав о кончине Екатерины Михайловны, - рассказывает Самарин, - я взял отпуск и, приехав в Москву, поспешил к нему (Хомякову. - В.В.). Когда я вошел в его кабинет, он встал, взял меня за обе руки и несколько времени не мог произнести ни одного слова. Скоро, однако, он овладел собою и рассказал мне подробно весь ход болезни и лечения. Смысл рассказа его был тот, что Екатерина Михайловна скончалась вопреки всем вероятностям вследствие необходимого стечения обстоятельств: он сам ясно понимал корень болезни и, зная твердо, какие средства должны были помочь, вопреки своей обыкновенной решительности усомнился употребить их. Два доктора, не узнав болезни, которой признаки, по его словам, были очевидны, впали в грубую ошибку и превратным лечением произвели болезнь новую, истощив все силы организма. Он все это видел и уступил им <...> Выслушав его, я заметил, что все кажется ему очевидным теперь, потому что несчастный исход болезни оправдал его опасения и вместе с тем изгладил из его памяти все остальные признаки, на которых он сам, вероятно, основывал надежду на выздоровление. <...> Тут он остановил меня, взяв меня за руку: "Вы меня не поняли: я вовсе не хотел сказать, что легко было спасти ее. Напротив, я вижу с сокрушительной ясностью, что она должна была умереть для меня, именно потому, что не было причины умереть. Удар был направлен не на нее, а на меня. Я знаю, что ей теперь лучше, чем было здесь, да я-то забывался в полноте своего счастья. Первым ударом я пренебрег; второй - такой, что его забыть нельзя". Голос его задрожал, и он опустил голову; через несколько минут он продолжал: "Я хочу вам рассказать, что со мною было. Тому назад несколько лет я пришел домой из церкви после причастия и, развернув Евангелие от Иоанна, я напал на последнюю беседу Спасителя с учениками после Тайной вечери. По мере того, как я читал, эти слова, из которых бьет живым ключом струя безграничной любви, доходили до меня все сильнее и сильнее, как будто кто-то произносил их рядом со мною. Дойдя до слов: "вы друзи мои есте", я перестал читать и долго вслушивался в них. Они проникали меня насквозь. На этом я заснул. На душе сделалось необыкновенно легко и светло. Какая-то сила подымала меня все выше и выше, потоки света лились сверху и обдавали меня; я чувствовал, что скоро раздастся голос. Трепет проникал по всем жилам. Но в одну минуту все прекратилось; я не могу передать вам, что со мною сделалось. Это было не привидение, а какая-то темная непроницаемая завеса, которая вдруг опустилась передо мною и разлучила меня с областью света. Что на ней было, я не мог разобрать; но в то же мгновение каким-то вихрем пронеслись в моей памяти все праздные минуты моей жизни, все мои бесплодные разговоры, мое суетное тщеславие, моя лень, мои привязанности к житейским дрязгам. Чего тут не было! Знакомые лица, с которыми Бог знает почему сходился и расходился, вкусные обеды, карты, бильярдная игра, множество таких вещей, о которых, по-видимому, никогда я не думаю и которыми, казалось мне, я нисколько не дорожу. Все это вместе слилось в какую-то безобразную массу, налегло на грудь и придавило меня к земле. Я проснулся с чувством сокрушительного стыда. В первый раз почувствовал я себя с головы до ног рабом жизненной суеты. Помните, в отрывках, кажется, Иоанна Лествичника эти слова: "Блажен, кто видел ангела; сто крат блаженнее, кто видел самого себя" (Точнее, не у преподобного Иоанна Лествичника, а у святого Исаака Сирина: "Кто сподобился увидеть самого себя, тот лучше сподобившегося видеть ангелов" (Аввы Исаака Сирина Слова подвижнические. Слово 41).). Долго я не мог оправиться после этого урока, но потом жизнь взяла свое. Трудно было не забыться в той полноте невозмутимого счастья, которым я пользовался. Вы не можете понять, что значит эта жизнь вдвоем. Вы слишком молоды, чтобы оценить ее". Тут он остановился и несколько времени молчал, потом прибавил: "Накануне ее кончины, когда уже доктора повесили головы и не оставалось никакой надежды на спасение, я бросился на колени перед образом в состоянии, близком к исступлению, и стал не то что молиться, а испрашивать ее от Бога. Мы все повторяем, что молитва всесильна, но сами не знаем ее силы, потому что редко случается молиться всею душой. Я почувствовал такую силу молитвы, какая могла бы растопить все, что кажется твердым и непроходимым препятствием: я почувствовал, что Божие всемогущество, как будто вызванное мною, идет навстречу моей молитве и что жизнь жены может быть мне дана. В эту минуту черная завеса опять на меня опустилась, повторилось, что уже было со мною в первый раз, и моя бессильная молитва упала на землю! Теперь вся прелесть жизни для меня утрачена. Радоваться жизни я не могу. <...> Остается исполнить мой урок. Теперь, благодаря Богу, не нужно будет самому себе напоминать о смерти, она пойдет со мной неразлучно до конца".
"Я записал, - продолжает Самарин, - этот рассказ от слова до слова, как он сохранился в моей памяти; но, перечитав его, я чувствую, что не в состоянии передать того спокойно сосредоточенного тона, которым он говорил со мной. Слова его произвели на меня глубокое впечатление именно потому, что именно в нем одном нельзя было предположить ни тени самообольщения. Не было в мире человека, которому до такой степени было противно и несвойственно увлекаться собственными ощущениями и уступить ясность сознания нервическому раздражению. Внутренняя жизнь его отличалась трезвостью, - это была преобладающая черта его благочестия. Он даже боялся умиления, зная, что человек слишком склонен вменять себе в заслугу каждое земное чувство, каждую пролитую слезу; и когда умиление на него находило, он нарочно сам себя обливал струею холодной насмешки, чтобы не давать душе своей испаряться в бесплодных порывах и все силы ее опять направить на дела. Что с ним действительно совершалось все, что он мне рассказал, что в эти две минуты его жизни самопознание его озарилось откровением свыше, - в этом я так же уверен, как и в том, что он сидел против меня, что он, а не кто другой говорил со мною.
Вся последующая его жизнь объясняется этим рассказом. Кончина Екатерины Михайловны произвела в ней решительный перелом. Даже те, которые не знали его очень близко, могли заметить, что с сей минуты у него остыла способность увлекаться чем бы то ни было, что прямо не относилось к его призванию. Он уже не давал себе воли ни в чем. По-видимому он сохранял свою прежнюю веселость и общительность, но память о жене и мысль о смерти не покидали его. <...>
Жизнь его раздвоилась. Днем он работал, читал, говорил, занимался своими делами, отдавался каждому, кому до него было дело. Но когда наступала ночь и вокруг него все улегалось и умолкало, начиналась для него другая пора. <...> Раз я жил у него в Ивановском. К нему съехалось несколько человек гостей, так что все комнаты были заняты и он перенес мою постель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживленных его неистощимою веселостью, мы улеглись, погасили свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся от какого-то говора в комнате. Утренняя заря едва-едва освещала ее. Не шевелясь и не подавая голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленях перед походной своей иконой, руки были сложены крестом на подушке стула, голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спящим. На другой день он вышел к нам веселый, бодрый, с обычным добродушным своим смехом. От человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь..."
Мемуаристы отмечали, что в смерти Екатерины Михайловны Гоголь увидел как бы некое предвестие для себя. "Смерть моей жены и мое горе сильно его потрясли, - вспоминал Хомяков, - он говорил, что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всей душою, особенно же Н.М. Языков".
После кончины Екатерины Михайловны Гоголь постоянно молился. "Между тем, как узнали мы после, - рассказывал Шевырев, - большую часть ночей проводил он в молитве, без сна". По словам первого биографа Гоголя Пантелеймона Кулиша, "во все время говенья и прежде того - может быть, со дня смерти г-жи Хомяковой - он проводил большую часть ночей без сна, в молитве".
Незадолго до своей кончины Гоголь на отдельном листке начертал крупным, как бы детским почерком: "Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок? И страшная История Всех событий Евангельских..." Биографы гадают, что может означать эта запись. "К чему относились эти слова, - замечал Шевырев, - осталось тайной". Самарин утверждал, что они указывают на какое-то полученное Гоголем свыше откровение. Как знать, не идет ли здесь речь об уроке, сродни тому, который получил Хомяков?..
Владимир Воропаев
|