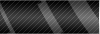Роман Джонатана Коу «Круг замкнулся», который в январе выйдет в издательстве «Фантом Пресс», продолжает историю, начатую в «Клубе ракалий». Действие происходит в 2000-е годы. Роман Джонатана Коу «Круг замкнулся», который в январе выйдет в издательстве «Фантом Пресс», продолжает историю, начатую в «Клубе ракалий». Действие происходит в 2000-е годы.
Теперь же я хочу рассказать о сегодняшнем вечере, после чего оставлю тебя в покое.
Несколькими часами ранее я в конце концов надумываю проявить вежливость и пойти на концерт группы Бенжамена. «Рюмка и бутылка», паб, где они играют, всего в пяти минутах ходьбы вдоль канала. Фил и Патрик будут там, и Эмили тоже — пора уже с ней повидаться. Вдобавок опасность столкнуться с Дугом Андертоном устранена: он в Лондоне прощается «со всем этим» в Королевском фестивальном зале (несравненно более престижном заведении, чем «Рюмка и бутылка», невольно приходит мне в голову, но так уже сложилось). Словом, у меня нет ни малейшего предлога, чтобы пропустить концерт.
Однако по дороге в паб я все время размышляю: почему мне так неохота идти туда. Музыкальные пристрастия здесь ни при чем, как и перспектива провести вечер в атмосфере слегка унылой ностальгии. Я стараюсь быть предельно честной сама с собой, и меня осеняет: причина — по крайней мере одна из причин — в Бенжамене: в школе я была слегка в него влюблена, и даже теперь, спустя столько лет, нечаянная встреча в книжном магазине меня как-то странно задела. И дело не только в том, что он был с девушкой и не сумел скрыть, что я прерываю отнюдь не невинную встречу двух друзей. Нет, главное в другом: за последние десять с лишним лет я почти не вспоминала о Бенжамене, но, как ни удивительно, осадок того чувства, что я испытывала к нему, так и застрял во мне несмываемым маленьким пятнышком. Ужасно… и тоскливо, правда? А кроме того, момент для откровения далеко не самый удачный. Я твердо знаю, что ради собственного здоровья, физического и душевного, ради того, чтобы выжить, я должна, и как можно скорее, вытравить Стефано из своих мыслей и ощущений. Но что, если это в принципе невозможно? Что, если чувства никогда и никуда не уходят? И уникальное ли я явление — уникальное и грустное — или со всеми в глубине души происходит то же самое?
Распахиваю дверь в паб, меняю морозную черноту набережной на ослепительный свет, тепло и громкие голоса, стремящиеся перекрыть друг друга.
Меня сразу замечает Патрик, подходит, целует не стесняясь. Фил подводит ко мне Эмили, и мы кидаемся в объятья друг другу: привет, Эмили, как замечательно снова встретиться, сколько лет сколько зим, и проч., и проч. Она не изменилась. Ни единого седого волоса (либо у нее классный парикмахер), по-прежнему отличная фигура и вроде бы даже более стройная, чем раньше. (Язвлю про себя: легко женщине сохранять фигуру, когда у нее нет детей). Прошу «кровавую Мэри», Фил отправляется за ней к барной стойке. (В баре уже вычислили, что Патрик несовершеннолетний — что не трудно, честно говоря, — и отказываются его обслуживать.) Народу собралось прилично.
— Они все пришли, чтобы послушать музыку? — интересуюсь я.
Фил кивает. У него хорошее настроение, он горд тем, что столько людей явились сюда ради Бенжамена. Вот я о том и толкую: Фил всегда был самым добрым из нас. Демографический расклад в пабе как на ладони: толпа в основном состоит из мужчин, едва вступивших в средний возраст. Почти у всех намечается брюшко. Но поскольку большинство членов группы обзавелись семьями, в наличии также и жены, и горстка смущенных подростков. Всего в паб набилось человек шестьдесят-семьдесят; небольшими компаниями публика стягивается к сцене — там, в глубине зала, музыканты настраивают инструменты. Бенжамен сидит за клавиатурой и, сосредоточенно хмурясь, пробует звук. У него уже по лбу катится пот: потолок в пабе низкий и под софитами, наверное, довольно жарко. Оглядываюсь в поисках его подружки Мальвины и замечаю ее в противоположном углу, она сидит за столиком одна. Мы встречаемся глазами, но и только: я понятия не имею, что тут дозволено протоколом. Девушка ни с кем не общается и, похоже, никого здесь не знает. Не познакомить ли ее с друзьями Бенжамена? Пожалуй, чересчур смелый шаг — не стоит усугублять и без того двусмысленную ситуацию. Кто знает, известно ли Эмили о существовании этой девушки, всплывало ли ее имя в разговорах Бенжамена с женой? Держу пари, не всплывало. Эмили глядит на сцену, в ее глазах восторг, преклонение перед героическими деяниями мужа. А он всего лишь подключает клавиатуру к усилителю и устанавливает вращающийся табурет на нужную высоту. Ну, не макет же он Вестминстерского аббатства сооружает из спичек и не высекает скульптуру из льда. Но она по-прежнему обожает его… после скольких лет брака? Ах да, вспомнила: шестнадцати. Признаться, не думала, что Бенжамен и Эмили протянут столь долго. С другой стороны, этому существует объяснение: расставания всегда давались Бенжамену с трудом, ведь он ненавидит сложности, ненавидит выяснения отношений. «Все отдам за спокойную жизнь» — таков его тайный девиз, и, наверное, жить с Эмили очень спокойно. И все же они мало подходят друг другу. Бенжамен всегда удивлял меня сосредоточенностью на себе. Я не хочу сказать, что он жадный или (намеренно) жестокий; он просто самодостаточен — в хорошем смысле — и, по сути, ему никто больше не нужен. Он не из тех, кто раскрывается, вот уж нет. Зато у Эмили душа нараспашку, она всегда готова быть опорой и поддержкой ближнему; в дружбе ли, в браке, она выкладывается полностью, ничего не оставляя себе: ни секретов, ни личного пространства. Но разве такое положение вещей — когда она отдает ему всю себя, получая взамен ничтожно мало, — не должно временами вызывать у нее горечь? Наверняка она не раз испытывала разочарование. Не только из-за детей; вернее, из-за их отсутствия. Я имею в виду мелкие разочарования. Множество мелких незначительных эпизодов, сотни эпизодов, когда он ее подводил, — за эти долгие годы.
Я уверена, что так оно и есть. Уверена: мои представления о союзе Бенжамена и Эмили правдивы. И чуть позже нахожу подтверждение тому в ее глазах.
Тусовка (так, кажется, это называется, — словечко, которое всегда меня смешило) в полном разгаре. Помнится, слушая группу Бенжамена в 80-х, я думала, как же старомодно они звучат. Они играли тягучие, какие-то булькающие композиции, но через несколько лет кто-то изобрел термин «кислотный джаз», и такая музыка опять вошла в моду. Однако в 80-х они казались вычурным анахронизмом. Сегодня же слушать их одно удовольствие. Отменные ударные: если не ошибаюсь, с ударником Бенжамен когда-то вместе работал в бухгалтерской фирме, с этого все и началось. В общем, ударник знает свое дело, басист ему под стать, и на этом крепком фоне Бенжамен, гитарист и саксофонист выплетают нежные, немного печальные (вклад Бенжамена, разумеется) мелодии, импровизируя чисто и умно: ни тебе затянутых соло, ни бесконечных повторов двух аккордов — публика не скучает и не дрейфует к бару. Послу двух-трех вещей слушатели уже не топчутся скованно на одном месте, качая в такт головами. Теперь они танцуют! Все! Даже Филип, который, может, и образец порядочности и благовоспитанности, но по части телодвижений до Траволты ему далеко. Эмили искренне веселится. Она на удивление лихо отплясывает. По-настоящему отрывается. Она привела с собой целую толпу друзей («церковные люди», информирует меня Фил), и посреди очередной композиции, когда музыка, достигнув первой кульминации, вновь стихает, а кое-где уже раздается плеск аплодисментов и хвалебные вопли, — в этот момент Эмили оборачивается к одному из своих друзей, высокому, узкобедрому, симпатичному малому; тот наклоняется, кладет руку ей на плечи, и она кричит:
— Я говорила тебе, что они молодцы, да? Говорила, что они потрясающие!
Она необыкновенно счастлива.
Я же не могу заставить себя присоединиться к общему веселью. Не понимаю почему. Возможно, потому, что последние несколько дней выдались такими странными, а последние несколько месяцев такими долгими и эмоционально изматывающими, что сегодня вечером груз переживаний давит на меня всей своей тяжестью. Как бы то ни было, никому и ничему не вытащить меня на танцпол. Я отираюсь позади, наблюдаю, прислонившись к стене, а потом иду в бар и покупаю пачку легких «Мальборо». Вот насколько плохи мои дела. Я давно не покупала сигарет; закурила снова, лишь когда вся эта история со Стефано начала меня изматывать, но до того держалась лет пять. Я пока не готова воспользоваться зажигалкой, но как приятно нащупывать пачку в кармане, как приятно знать, что она там. Рано или поздно я захочу сигарету. Чувствую, как эта потребность нарастает.
Спустя примерно полчаса атмосфера в пабе меняется, и тут я смекаю, что пора уходить.
Происходит вот что. Бодрая темповая вещь заканчивается сочным раскатом тарелок, увенчанным мощным финальным аккордом, после чего трое музыкантов откладывают инструменты и удаляются за сцену. Выступающих теперь только двое — Бенжамен и соло-гитарист; гитарист объявляет следующий номер, предупреждая, что мы услышим дуэт. Поясняет, что дуэт написан Бенжаменом и называется «Морской пейзаж № 4». Затем они начинают играть, и настроение публики становится совершенно иным. Это изящная грустная мелодия — такая хрупкая, что даже страшно за ее сохранность, — и лицо Бенжамена преображается. Он склонился над клавишами, внезапно ссутулившись, напряженный, недоступный для внешнего мира, глаза его полузакрыты. Хотя вещь довольно сложная, он почти не следит за пальцами — ясно, что все аккорды, все пассажи он знает наизусть, они отпечатались в его памяти очертаниями любовной связи, которую невозможно забыть, и поэтому он волен думать о чем угодно, волен устремлять внутренний взгляд куда угодно: вспять, к прошлому, к тем переживаниям, что вдохновили его на эту горестную музыку. И, разумеется, кое-кто из присутствующих здесь в курсе, что именно вдохновило Бенжамена. Точнее, кто. Сознавая это, я бросаю взгляд на Эмили — как она реагирует на музыку, как справляется с переменой интонации, с переменами в ее муже. Эмили теперь тоже выглядит совершенно по-другому. Она больше не таращится с обожанием на сцену. Она смотрит в пол. Верно, она улыбается, но что это за улыбка! Обломки улыбки, окаменелости, оставленные схлынувшим возбуждением, твердые, сухие, безжизненные, — застывшая гримаса, которая лишь подчеркивает невыносимую печаль, проступившую на ее лице. Мне хватает одного взгляда на Эмили, чтобы понять: может, женщина, воспетая этой музыкой, и разбила сердце Бенжамену когда-то, много лет назад, но за годы замужества на сердце Эмили возникли сотни, тысячи трещин, ибо она знает — ее муж так и не забыл той короткой, нелепой, сокрушительной подростковой любви. Подозреваю, никогда и не пытался забыть, вот что ранит больнее всего, вот что непростительно. А зачем ему забывать ту женщину? Зачем отдавать Эмили первое место? Пусть вечно чувствует себя только второй. Он никогда по-настоящему не хотел ее. Эмили — всего-навсего утешительный приз самому безутешному.
Я оглядываю непроницаемые лица слушателей и задаюсь вопросом: неужто они не понимают, что происходит и какую музыку им сейчас играют? Неужто не слышат? Неужто не видят жуткой бледности, покрывшей Эмили, стоило этому дуэту взяться за инструменты?
Нет, похоже, они не врубаются. В пабе есть только один человек, захваченный музыкой, завороженный ею; только один человек, который, видимо, знает, из каких глубин черпает Бенжамен свои музыкальные идеи, и, что любопытно, этот человек — Мальвина. Она впилась взглядом в Бенжамена, и внешне она тоже переменилась: подобралась, насупилась. До сих пор она сидела где-то сбоку, безучастно наблюдая за происходящим, но эта музыка явно в ней что-то затронула. Девушка увлечена, впервые за вечер страстно увлечена.
И я опять ломаю голову, в который уже раз: что связывает этих двоих?
Смотрю то на одну, то на другую, на этих двух женщин, которых Бенжамен (бессознательно, конечно) мучает своей музыкой, и понимаю, что мне надо выбираться из паба — немедленно. Нахожу Патрика, дергаю его за руку, а когда он поворачивается, прикладываю ладонь к его уху и шепчу, что мне пора; мы договариваемся встретиться завтра, во время большой перемены в школе. Я сбегаю. Несколько минут спустя стою у канала. Дорожку на берегу уже подморозило, по черной воде ни с того ни с сего пробегает рябь, и бледные фонари отражаются в ней, рассыпаются на пляшущие огоньки. Дым от моей сигареты струится кольцами, я чувствую во рту табачный привкус, горький, саднящий, очистительный.
И чудится мне, что теперь я знаю все, что только можно знать, о том, как жили Бенжамен и Эмили все эти годы, пока меня здесь не было. Как легко, однако, увидеть историю целой жизни в одном-единственном безотчетном мгновении. Надо лишь оказаться в нужном месте в нужный момент и смотреть в правильном направлении. Но если начистоту, со мной такое уже бывало. Впервые я столкнулась с чем-то подобным месяца два назад в Лукке. Не в пабе. И не на вечере встречи стареющих поклонников джаза. Как-то ранним вечером я зашла в местную gastronomia и увидела там Стефано с дочкой Аннамарией; они спорили, выбирая оливки.
Абсолютно банальное происшествие, если подумать. Что тут такого особенного? Моим первым порывом было подойти к ним. Почему нет? Вряд ли бы это вызвало неловкость. Через два дня мы со Стефано собирались вместе пообедать. Правда, я не была знакома с Аннамарией, но не это удержало меня на месте. Сперва я медлила, потому что заметила, что он набирает номер на мобильнике. Пусть закончит разговор, подумала я, а уж потом я выступлю вперед со своим «здрасьте».
К тому времени наши отношения (хотя можно ли называть «отношениями» нашу странную ситуацию?) уже длились три месяца. Жена Стефано, несмотря на клятвы и обещания, по-прежнему изменяла ему. Он твердил, что уйдет от нее. Когда мы говорили об этом, я от советов воздерживалась. Поскольку сильно сомневалась в своей беспристрастности. Развод Стефано был в моих интересах. Нет… я выразилась слишком сдержанно. Я отчаянно мечтала, чтобы он ушел от нее. Желала этого каждым мускулом своего сердца. Но помалкивала. Ситуация развивалась так, что я оказалась в роли друга, пусть и мнимого, и в этом качестве мне оставалось лишь молчать в тряпочку. Мы упорно продолжали обедать вдвоем, выпивать, таить наши желания и блюсти приличия, знаменуя постными поцелуями начало и конец свиданий. Что до чувств, причинявших мне такие страдания, такую неутолимую боль, я пыталась притворяться, что их не существует. Пыталась геройствовать. Глупо, конечно; впрочем, меня поддерживала тайная надежда, что однажды, в сравнительно близком будущем, мое терпение будет вознаграждено сторицей.
На звонок Стефано не ответили. Я услыхала, как он сказал дочке: «Нет, ее нет», и девочка спросила: «Неужели ты не помнишь, папа, какие она любит?» Они разглядывали две банки жирных зеленых оливок, выставленных на полке в отделе самообслуживания, и он колебался, не зная, какую взять. Но это было не обычное замешательство покупателя. Вовсе нет. Ему было действительно, действительно важно принести жене именно те оливки, которые ей больше всего нравятся. И вдруг я поняла, что вот на таких мелких будничных проблемах и зиждется счастье их семейной жизни. В этих колебаниях по поводу оливок с удручающей четкостью проступила непреходящая любовь, которую он испытывает к той женщине, продолжает испытывать, несмотря на ее измены; любовь, которую, как я упрямо надеялась, стиснув зубы, он в один прекрасный день перенесет на меня. Надежда увяла и засохла в мгновение ока, в кратчайший отрезок времени: была — и нету. Ее гибель подкосила меня. Я повернулась и пошла прочь от Стефано и его дочки, и уходила я другим человеком — абсолютно непохожим на ту женщину, что только что беззаботно вошла в gastronomia и едва не поздоровалась со знакомыми. Прежняя я рассыпалась, разлетелась по ветру в один момент. Вот куда меня завел этот ужасный дар внезапной проницательности: теперь я точно знала — Стефано никогда не покинет жену.
Никогда, пока они оба живы.
Оливки. Кто бы мог подумать… Интересно, какие он в итоге выбрал?
Ну да ладно.
Сигарета догорает, и я выбрасываю ее в мраморную черноту канала. Холод пробирает до костей. Похоже, пора возвращаться в отель, назад в тепло и уют.
Хватит уже предаваться размышлениям.
Сидя в кожаном кресле на двадцать четвертом этаже «Хайят-Риженси» — финальная и самая лучшая точка обзора! — я гляжу на панораму огней этого вновь ожившего города, который так самозабвенно перестраивается, преображается, и радуюсь тому, что побывала на концерте Бенжамена. И знаешь, почему? В тот бесценный миг я поняла, что Бенжамен по-прежнему блуждает в прошлом, он по-прежнему в его власти, и я увидела, какую боль это причиняет другим, и подумала, что так нельзя, что я не пойду по этому пути. Я не о Стефано говорю, я говорю — как это ни горько, моя любимейшая сестра, — о тебе. Ты была моим молчаливым спутником все эти годы, и мне хотелось верить, что мои слова каким-то образом дойдут до тебя, но теперь я чувствую: настало время расстаться с этой фантазией. Завтра я выпишусь из отеля, уеду в другой город, а сейчас, наконец, поставлю точку в этом письме — в этом длинном-предлинном письме, которое я никогда не отправлю, потому что в реальности нет никого, кому его можно отправить, — а потом закрою венецианскую тетрадь и спрячу куда-нибудь с глаз долой. Может быть, однажды кто-нибудь прочтет мое письмо. Как бы я хотела, чтобы это была ты. Но именно эта надежда мешала мне двигаться дальше. Надежда, что ты услышишь меня. Надежда, что ты прочтешь мои письма. Надежда, что ты жива.
Я должна начать все заново. С чистого листа. А значит, начать с самого трудного — чему я так долго противилась — прекратить надеяться.
Способна ли я на это?
Думаю, да. Способна.
Ну вот. Прекратила.
Мириам, дорогая, прошу, прости меня.
Твоя любящая сестра,
Клэр.
Джонатан Коу. Круг замкнулся. М.: Фантом Пресс, 2009. Перевод с английского Елены Полецкой
|