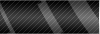— Но ведь я не снимаюсь в кино!— так откликнулась Фаина Георгиевна Раневская на мое предложение написать о ней в «Советский экран». — Но ведь я не снимаюсь в кино!— так откликнулась Фаина Георгиевна Раневская на мое предложение написать о ней в «Советский экран».
— Да, не снимаетесь, увы. Много лет длится эта экранная пауза. И все-таки (к великому счастью!) не этим вынужденным «простоем» определяется ваше положение в кинематографе. Вы живете в нем так же, как и в театре, в искусстве, культуре нашего народа. В нашем времени.
Прочно, основательно, навсегда. Прекрасно сказал об этом однажды поэт Павел Антокольский: «Фаина Раневская — актриса! Погодите! Она явление природы, как Ветер и Молния. Вот она кто!»
Как же совершается это чудо нашего общения с Раневской? По-разному. То вдруг мы снова повстречаемся с вами в одной из старых кинолент. В «Подкидыше», в «Золушке», в «Мечте», в «Весне»... Вот вы в «Пархоменко» сидите у рояля в каком-то прокуренном, паршивом кабачке, нелепая жалкая таперша с папиросой в углу рта, с «жестоким» романсом на устах, «пусть летят и кружат пожелтевшие листья... (и — раз!— вороватым движением — объедки с какого-то блюда) ...березы. Я одна... Я грущу», и снова — в тарелку, сорок секунд длится роль—сорок лет она уже на нашей памяти, да и вы сами всегда с доброй улыбкой говорите; «Мне эту женщину было жалко. И, кажется, только мне одной».
То вдруг мы услышим по радио ваш прелестный рассказ о том, как вы снимались однажды. В сценарии не было для вас роли, но режиссер так загорелся, что решил переделать попа на попадью. Не было и текста, он предложил вам импровизировать. И войдя в поповский дом, вы так изъяснялись с канарейками: «Рыбы мои дорогие, вы все прыгаете, прыгаете, покоя себе не даете», так миловались со своими ненаглядными свиньями: «Ну, дети мои родные, кушайте на здоровье», вы великолепно сымпровизировали этот характер, неотделимый от хрюкающего, хрумкающего, хряпающего, утробного мира. Это была «Дума про казака Голоту» и прекраснейший кинорежиссер Игорь Савченко. («А вы знаете, какое чудо сделал Савченко?.. Что вы волнуетесь, сказал он мне, это же репетиция. А сам снимал!»)
То вдруг по телевидению покажут целую панораму ваших ролей (нет о вас фильма, но существует такая телепередача), и тогда со всех концов страны летят к вам письма, звонки-звонки в вашем доме на Южинском переулке...
После передачи позвонил писатель Леонид Леонов: «Неужели все это были вы одна?!»
Галина Уланова: «Я это уже видела. Но вчера вы играли гораздо лучше!»
Парадокс? Нет. Вы действительно раз от разу «играете лучше», смотритесь неотразимее в ваших старых картинах. Таково свойство киноклассики. А ваши роли, пережив многие из фильмов, в которых они сыграны, соединившись воедино, став экранным миром Фаины Раневской, став образной эмоциональной памятью о нем миллионов зрителей, конечно, принадлежат классике, великим проявлениям киноискусства. Вот почему в каждом из нас всегда живет готовность к встрече с вами, память и ожидание такой встречи. Вот почему ваше общение с нами постоянно.
Ваши роли в кино {как и театре) оценены критикой и описаны тысячекратно. И все же я рискну напомнить об одном, может быть, самом главном. Вспомним ряд ваших фильмов: «Пышка», «Мечта», «Золушка», «Подкидыш», «Весна» (какие ясные, простые заглавия!). В каждом из них ваши героини непременно противостоят, противоречат, выражают собой некую антитезу главному мотиву картины. Нет в госпоже Луазо сердечности и великодушия Пышки... Нет у престарелой и нелепой Маргариты Львовны никаких надежд на лучезарную весну и любовь... Лишь промелькнет е жизни суматошной и доброй Лелечки ребенок, «деточка», останется неудовлетворенной ее жажда материнства... А в образе Розы Скороход, главной героини "Мечты», тема несостоявшейся жизни поднимется до трагедийных высот... Но через все эти образы, через все эти жизни вы проносите тему добра. Вы его рыцарь и защитник, даже тогда, когда ваши героини слепо поклоняются злу, жестокости, лицемерию. Вы и здесь отстаиваете добро, эта цель каждый раз начертана на образе, потому что ваша душа и мысль всегда живут в роли. Зло для вас — это трагедия добра; дурное, страшное — это горькая потеря доброго, светлого. Мы всегда ощущаем это, даже в самом остром, смешном или трагедийном рисунке.
Каждая ваша экранная работа—это непременное обогащение роли. Вы — гениальный импровизатор и прекрасный писатель, творящий в воображении, вслух, без листа бумаги. Многие короткие роли целиком придуманы вами. Многие дописаны, причем именно ваши фразы оказывались крылатыми и порой, как один блистательный штрих, целиком очерчивали роль.
«Муля, не нервируй меня!» — это великолепный экспромт актрисы на съемочной площадке «Подкидыша». (Забавно, что одна эта реплика принесла Раневской поистине легендарную популярность.) Но таких примеров десятки, сотни.
В фильме «Человек в футляре», играя жену инспектора гимназии (роль, опять-таки практически не имевшую текста), Раневская придумала фразу, которая и сегодня на памяти у тысяч зрителей: «Я никогда не была красива, но всегда была чертовски мила». Придумала и — потеряла покой. Господи, ведь это Чехов, как же я посмела что-то присочинять?! Маялась страшно, наконец позвонила Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой и, рассказав все, спросила: «Что бы сказал Антон Павлович?!» Та помолчала. Подумала, словно представив себе эту картину. И ответила: «Он бы улыбнулся».
Театральные вечера
Чтобы встретиться с вами сегодня, ваши почитатели, вернее, счастливейшие из них, с заветными билетами приходят в театр имени Моссовета. Они могут увидеть вас в двух спектаклях. «Дальше — тишина» — уже десять лет на сцене. «Правда — хорошо, а счастье лучше» — премьера нынешнего сезона. Но оба спектакля были, есть и будут премьерными, если полагать, что премьера — это особый, праздничный настрой театрального вечера, аншлаг, новизна успеха. А Раневская не повторяется ни в одном исполнении роли.
За несколько часов до того, как раскроется занавес, актриса выезжает из дома в театр. «Куда же ты?! Вернись! Я все прощу!» — так каждый раз (улыбается Фаина Георгиевна) безмолвно восклицает Мальчик — ее собака, найденыш, спасенный ею однажды на Тверском бульваре... и остается ждать.
«Мне нравится заходить в театр, когда играет Раневская, — говорит Ия Саввина.— Дверь из общего коридора, ведущая в закулисную часть, где помещаются артистические уборные, закрыта. Все стараются говорить тише. Сцена вымыта, пахнет не пылью, а свежестью... Говорят, так было у Станиславского, но, к сожалению, эта традиция почти утеряна. И возврат к ней — дань уважения к Раневской».
В спектакле «Дальше — тишина» Раневская играет Люси Купер, старую американку, любящую супругу и мать — преданную детьми, по их воле разлученную с мужем и отправленную в дом для престарелых. Для актрисы — это венец многих ее драматических ролей, ее дум о жизни, веры в неугасимость добра, в просветляющую силу сострадания. Эти чувства она отдает в зрительный зал, вызывая потрясение в миллионной аудитории, увидевшей благодаря телевидению этот спектакль.
...Иногда после спектакля «Дальше — тишина» я заглядываю за кулисы — к Раневской. Она одна в гримуборной, в наступившей тишине. Безмерно усталая. Как-то горестно и счастливо просветленная. Вся еще охваченная волнением. Как прекрасно бывает в эти минуты ее лицо. Я вспоминаю женские портреты Рембрандта, в которых художнику удавалось запечатлеть мгновенье и всю жизнь человека. Ты медленно — словно во Времени — отходишь, отдаляешься от портрета рембрандтовской «Старушки»,и наступает «оптическое волшебство» —стираются, тают морщины, горестные складки, исчезает старость, усталость, печаль, и вот перед тобой блистает молодое, прекрасное лицо женщины, еще не изведавшей многих-многих лет жизни, и дальше — точно в дымке, в грёзе — светится самая юность, как видно, бессмертная, неувядающая!.. Так и лицо Раневской в эти мгновения. Точно перед тобой распахивается сказочный коридор времени и на ночном перроне, вкруг него, где только что расстались навсегда старая Люси Купер со своим мужем, реют образы, души людей: и странная миссис Сэвидж, и гордая, непреклонная Бабушка из спектакля «Деревья умирают стоя», и беззащитная, сломленная жестокостью ближних Верди из «Лисичек»...
Люди, жизни... и еще дальше, в прозрачной дымке времени сама она, девочка из 1915 года, из своего самого первого спектакля, из массовки на сцене дачного театра в Малаховке, странная, смешная барышня, упавшая в обморок, над которой склонился великий Илларион Певцов, встревоженно и изумленно: как это можно по-настоящему лишиться чувств от любви и сострадания к герою спектакля?!.. «Вспомните мои слова,— говорит Певцов,— она станет настоящей артисткой!»
Вся жизнь... Под гром восторженных аплодисментов на сцене появляется Раневская — старая нянька Филицата в спектакле «Правда — хорошо, а счастье лучше». В пестрый, гротесково заостренный, озорной спектакль, поставленный Сергеем Юрским, она — как камертон, как непререкаемую правду — привносит дух и плоть драматургии Островского, сочность, ядреность и мудрое лукавство его народных характеров. Она будто бы и не главная в пьесе, но выведена режиссером на самый крупный и яркий план и по-бурлацки, захватывая силой, молодостью таланта, «тянет лямку» всего театрального действа. (А как поет — поучиться бы нашим «микрофонным шансонье»!). Спектакль поставлен с огромным уважением к дару, возрасту и всенародной славе актрисы. Это — настоящий бенефис Фаины Георгиевны Раневской, которая шестьдесят пять лет назад впервые ступила на театральную сцену.
«Не память рабская, но сердце»
Из многих граней этой великой творческой личности (а здесь надо вспомнить и могучий ум, и сердце Раневской, и ее энциклопедическую культуру, и громадный жизненный опыт, и сохранившееся при этом феноменальное чувство юмора!) я хотел бы здесь отметить отношение Раневской к творчеству — то, что дает бесценный нравственный и художнический урок новым поколениям актеров.
Жизнь в искусстве неотделима для нее от величайших ценностей нашего мира, от Пушкина и Толстого, от Чехова и Станиславского...
«Станиславский был в нашем деле такое же чудо, как Пушкин в поэзии. Я буду умирать, и в каждом зрачке у меня будет Станиславский — Крутицкий». О Толстом: «Я не могу оторваться. Вы мне или кто-нибудь в мире объясните, что это за старик?! Я в последнее время не читаю ни Флобера, ни Мопассана. Это все о людях, которых они сочинили. А Толстой: он это знал, он пожимал им руку или не здоровался...»
Крайне редко Раневская бывает довольна сыгранным спектаклем. Она безмерно требовательна к себе. Но однажды я услышал от нее пушкинские строки:
Да, мне удавалось
Сегодня каждое движенье, слово.
Я вольно предавалась вдохновенью,
Слова лились, как будто их рождала
Не память рабская, но сердце..
..Теперь она уже редко бывает на театральных и кинопремьерах. Ждет их показа по телевидению. И все же актриса жадно следит за жизнью искусства, старается не пропустить новое имя и загорается от открытия таланта.
Впервые увидев Инну Чурикову в фильме "Начало», Раневская была покорена ее игрой. Однажды поделилась со мной: «В Инне Чуриковой мне интересна ее неповторимость. Она необыкновенно достоверна. Я верю каждому ее движению, взгляду. Верю ее глазам. Никогда не забуду, как она угощала своего любимого: «Ешьте, это птица», как держалась, смотрела на него. И — делалась красивой! Талант делает человека красивым. А ее Любовь Яровая!.. Как она ринулась в революцию от личного счастья! Чурикова играет народоволку по духу. А многие играли просто «хорошеньких», вот я, красавица, а ухожу в революцию, и это была неправда. Сейчас уже не все понимают, какой ценности, правды и силы эта пьеса Тренева. Но я хорошо помню то время, помню Тренева еще учителем гимназии в Симферополе, где я играла. Он писал эту пьесу «у меня на глазах».
Можете сказать, что через вас я объяснилась в любви актерам, которые играли в фильме «Любовь Яровая». Алла Демидова, сыгравшая Панову, ее порочное равнодушие к происходящему, радость по поводу гибели людей!.. Как она несет эту тему великолепно! В старину таких актрис называли «кружевницами». И, по-моему, просто неповторим Андрей Попов в роли профессора Горностаева».
«Я радуюсь таланту другого, как радовалась бы своему собственному»,— часто повторяет Фаина Георгиевна. Однажды по телевидению, в спектакле, увидела Марину Неелову —никогда прежде не знала, не встречалась, но какая прелесть, какой трепетный дар! «Разыскала ее,— улыбается Раневская.— Она прибежала ко мне. И, видно, ей хотелось как-то выговориться, показать мне, кто же она такая, ведь я так мало видела, знаю ее. И она играла передо мной, показывала мне свои роли, прямо здесь, без всяких декораций. В ней есть какое-то изумительное самозагорание!.. Я бы, наверное, не могла».
Но насколько внимательна, нежна Раневская к каждому «таланту от бога», настолько же огорчает, больно ранит ее посредственность, подвизающаяся в искусстве. «Для меня всегда была загадка, как великие актеры могли играть с актером, у которого нечего взять, нечем заразиться (хотя бы насморком!),— говорит она.— Как бы растолковать бездари: никто к вам не придет, потому что от вас нечего взять. Я от вас ухожу, потому что у вас нечего взять. Вам понятна моя мысль неглубокая?.. А вообще я не признаю слова «играть». Пусть дети играют. Пусть музыканты играют. Актер должен жить».
Знаете, есть такие крылатые слова: «Талант — это вера в себя». А по-моему, талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой, своими недостатками, чего я, кстати, никогда не встречала у посредственности. Они всегда так говорят о себе: «Сегодня я играл изумительно, как никогда!», «Вы знаете, какой я скромный? Вся Европа знает, какой я скромный!».
Для меня всегда светлым примером, актерской скромности был и остается Василий Иванович Качалов. Помню, как вернулся он однажды из театра домой (мне случилось быть у него в гостях), чем-то ужасно подавленный, расстроенный. Мы сели обедать. Василий Иванович старался держаться как обычно, не выказывая никак своего настроения. А потом вдруг сказал как-то очень растерянно, горько: «Я больше не играю в «Трех сестрах». Меня сняли с роли Вершинина». И, помолчав, добавил: «Что ж, наверное, это справедливо. Болдуман моложе и красивее меня». Это был Качалов. Великий артист».
...В рассказах Раневской распахиваются дали прожитых лет. Годы актерских странствий. Встречи со многими замечательными людьми. То Маяковский, суровый, озабоченный, стоит у окна, молча, нахмурившись читает какие-то записки и тотчас их рвет, то отворяется дверь кондитерской, где Раневская и знаменитая балерина Гельцер пьют шоколад, и входит в котелке молодой изящный поэт Мандельштам, то проезжает по улице пролетка, в ней чуть растерянный, смущенно раскланивающийся Станиславский, а сзади бежит юная поклонница (это она, Раневская!), восторженно и смешно машет ему, восклицая «Мальчик, дорогой!», то над Алма-Атой разгорается раннее азиатское утро, а Эйзенштейн все рассказывает ей о своем будущем «Иване Грозном», продолжая покрывать рисунками листы тетради, то раскрывается дверь больничной палаты и входит Шостакович с пакетом в руках: «Я позвонил домой, мне принесли пластинки с моими квартетами, здесь есть и Восьмой, который вам полюбился»... В этих удивительных, прекрасно рассказанных, редкостных теперь воспоминаниях перекрещиваются многие дороги нашей литературы и искусства, вспыхивают яркие, живо схваченные портреты людей... И каких людей!
Я много раз уговаривал Фаину Георгиевну, чтобы она записала свои прекрасные рассказы.
— Нет-нет,— всякий раз отвечает она.— Я не имею права говорить о том, что думали и чувствовали другие люди. Как знать, хотели бы они этого?.. Три года я писала книгу и порвала ее. Страницы усеяли всю комнату, как белые мертвые птицы. Я нашла объяснение у Стендаля: если у человека есть сердце, он не хочет, чтобы его жизнь бросалась в глаза.
Я вообще, мой дорогой, очень не люблю высказываться, Для меня актер полностью самовыражается только в своем творчестве. Я всегда завидовала актерам, которым удавалось выявить себя творчески до конца — завидовала им светлой завистью.
|