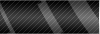1. Одна абсолютно счастливая деревня (Петр Фоменко)
В спектакле, поставленном по книге Бориса Вахтина, был эстетически осмыслен даже не бенефис, а основа основ театрального мастерства — этюд. Кто-то становился тут застенчивой коровой, кто-то заглохшим — мат-перрремат — генератором. Артисты сочиняли мир, в котором будут жить, но, сочиненный и материализованный на сцене, этот мир сам затевал потом лукавые игры со своими демиургами. Тут все: сценография, бутафория, реквизит — лицедействовало и было подвержено неожиданным превращениям. В сущности, этот спектакль — квинтэссенция театрального стиля Фоменко, для которого вход в преисподнюю возможен лишь через прорезанный в подмостках люк, а дорога на небеса начинается там, где кончается зеркало сцены. Примерно в районе колосников.

2. Захудалый род (Сергей Женовач)
«Захудалый род» — первый спектакль Женовача, выпущенный после того, как его знаменитый гитисовский курс обрел статус театра. Нет сомнений, что это программный спектакль. Не так уж сложно найти переклички между богоискательством неоконченной семейной хроники Николая Лескова и подвижнической философией новоиспеченной Студии, явно решившей вернуть возвышенным, но затертым словам и понятиям их первоначальный смысл. Женовач вообще умеет и любит ставить прозу. В его неторопливом театральном чтении есть столь мощное обаяние, что сценическое многословие не утомляет. Но главное его умение все же в другом — являть на сцене истинно прекрасных людей. Известно, что всякого рода упырей играть проще, чем добродетельных героев. Для Женовача удивительным образом именно изнанка человеческой души всегда оставалась тайной за семью печатями, зато театральную формулу душевного благородства и чистоты в густонаселенном четырехчасовом спектакле, повествующем о милой сердцу старине, он выводит с талантливой легкостью.
3. Московский хор (Лев Додин)
Главное, что поражает в «Московском хоре» и бросает неожиданный отсвет на все, что прежде делал Додин, — не поддающаяся определению эстетика. Да полноте ли, психологизм ли это? Как метод работы — может, и да; как сценический итог — вряд ли. Прививка школы Станиславского к стволу советской жизни дала неожиданный результат. Ибо психологизм Додина все время скатывается к трагическому гротеску, к шуткам на уровне гэгов, к разящим наповал метафорам. Взрывается надрывной игрой, граничащей порой с дурным театром. Разве так, по Станиславскому, надо писать воззвание Хрущеву? Не сев за стол и аккуратно скрипя перышками, а взгромоздившись на самый верх многоярусной конструкции и выкрикивая текст послания со всеми «тчк», «зпт», как на митинге? Сочетание гиперреализма с гипертеатральностью и есть режиссерское ноу-хау Льва Додина, очень пригодившееся для пьесы Людмилы Петрушевской, для ее талантливого абсурда с советским лицом.

4. Черный монах (Кама Гинкас)
В своей чеховской трилогии (кроме «Черного монаха» это еще «Дама с собачкой» и «Скрипка Ротшильда») Гинкас совершенно размыл привычную чеховскую акварель. Его Чехов — это не акварель, а скорее картина экспрессиониста. Особенно «Черный монах». Даже привыкшие к опасной театральной эквилибристике Гинкаса тут в какой-то момент буквально вскакивают с кресел. Деревянные подмостки, выстроенные Сергеем Бархиным на балконе зрительного зала (зрители сидят тут же, на балконе), нависают над партером. Сергей Маковецкий (Коврин) в самом начале спектакля немного постращает зрителей, стоя на краю балкона, а потом и впрямь вниз — в партер — прыгнет. Чеховский Коврин мечтает вырваться из тенёт обыденности. Гинкас на несколько секунд дает ему эту возможность. Он словно бы наглядно пытается доказать себе и нам всем: прорыв к подлинной жизни опасен для жизни.

5. Между собакой и волком (Андрей Могучий)
В спектакле знаменитого питерского авангардиста по роману Саши Соколова поражает фантастическая расфокусировка сценического действия. Отдаленным кинематографическим аналогом этого театрального приема можно, пожалуй, назвать последние фильмы Алексея Германа-старшего. Нужно обладать глазами стрекозы, чтобы увидеть все мини-сюжеты придуманного Могучим многофигурного театрального полотна. Так же, как автор положенного в основу спектакля романа сражается с языковой стихией, режиссер борется с образами, нахлынувшими на него от чтения вязкой, как болото, и терпкой, как запах ила, прозы Соколова. Его спектакль апеллирует не к интеллекту, он апеллирует к свойствам памяти: так по прошествии времени российская глубинка вдруг оборачивается в твоем сознании поэтичной страной гиперборейцев, царством вечного льда и ветра. В этой стране есть все, чего ждет зритель: снег, каток, балерина, Пушкин из анекдотов, — но при этом нет ни грана матрешечной пошлости. Это Россия, которую мы сами себе придумали, но которая кажется порой реальнее той, в которой на самом деле живем.

6. Демон. Вид сверху (Дмитрий Крымов)
Театр Крымова — одно из самых заметных явлений, возникших в нашем пространстве за последние годы. Нечто похожее делал когда-то Тадеуш Кантор, но его сценические экзерсисы рождались из воспоминаний о детстве. У Крымова они рождаются из тоски по мировой культуре. В «Демоне» мировая культура, а также наша грешная земля с ее ландшафтами, горами, морями и наша не менее грешная жизнь с ее горестями и радостями увидены с высоты птичьего полета. Зрителям, расположившимся на балконах круглой арены, предложено взглянуть на мир глазами «вольного сына эфира». Этот увиденный сверху мир у Крымова разнообразен и прекрасен. Он увиден СВЕРХУ, но не СВЫСОКА. В лукавых постмодернистских играх режиссера с классикой тут просвечивает любовь ко всему сущему, вроде бы утраченная уже европейской культурой, но на новом витке исторической спирали вдруг опять явившая себя во всей красе.

7. Лес (Кирилл Серебренников)
 Действие российских спектаклей разворачивается, как правило, в лишенном примет времени волшебном мире прекрасного. Для Серебренникова категория времени, напротив, стала едва ли не самой важной. В шумном мхатовском «Лесе» ответы на вопросы, где и когда случились события пьесы, в значительной степени исчерпывают режиссерский концепт. Но заданы исходные условия жестко и умно. Действие пьесы Островского перенесено в конец российских шестидесятых со всеми вытекающими отсюда и талантливо воспроизведенными визуальными и музыкальными последствиями. В «Лесе» к тому же собран блистательный актерский состав: Наталья Тенякова, Евгения Добровольская, Авангард Леонтьев, Дмитрий Назаров… Их специфически российская бенефисная манера игры в сочетании с принципами европейского артхауса (только слепой не заметит, что на художественное решение спектакля повлияла Анна Фиброк, постоянный сценограф Кристофа Марталера) и создают особый стиль Кирилла Серебренникова. Действие российских спектаклей разворачивается, как правило, в лишенном примет времени волшебном мире прекрасного. Для Серебренникова категория времени, напротив, стала едва ли не самой важной. В шумном мхатовском «Лесе» ответы на вопросы, где и когда случились события пьесы, в значительной степени исчерпывают режиссерский концепт. Но заданы исходные условия жестко и умно. Действие пьесы Островского перенесено в конец российских шестидесятых со всеми вытекающими отсюда и талантливо воспроизведенными визуальными и музыкальными последствиями. В «Лесе» к тому же собран блистательный актерский состав: Наталья Тенякова, Евгения Добровольская, Авангард Леонтьев, Дмитрий Назаров… Их специфически российская бенефисная манера игры в сочетании с принципами европейского артхауса (только слепой не заметит, что на художественное решение спектакля повлияла Анна Фиброк, постоянный сценограф Кристофа Марталера) и создают особый стиль Кирилла Серебренникова.
8. Рассказ о счастливой Москве (Миндаугас Карбаускис)
Удивительно цельный, гармоничный, прекрасно придуманный и прекрасно сыгранный спектакль. Из неоконченного и довольно громоздкого романа Андрея Платонова Карбаускис смог вычленить ясный и очень личный рассказ о погибшей любви. Смог найти точный и емкий визуальный образ (действие спектакля разворачивается не в стране, не в городе, не на производстве, а в гардеробе: вот она, модель мира — встань в очередь, возьми номерок). Смог обнаружить за социальными проблемами проблемы иного, бытийственного порядка. Смог, наконец, увлечься Платоновым, но не до конца поверить ему. В романе «Счастливая Москва» герои отказываются от радостей жизни и любви ради абстрактных идей, но Платонов не развенчивает идеи. Он скорее развенчивает жизнь и природу, не приспособленные к тому, чтобы эти идеи воплотить. Карбаускис жизнь ставит выше идеалов. Человеческие привязанности выше идей. И спектакль, собственно, об этом — о ценности личного счастья и возможности любви.

9. Медея-материал (Анатолий Васильев)
В малопродуктивных дебатах о том, много ли хорошего напридумал Васильев в своих затворнических поисках, именно «Медея-материал» служит решающим аргументом в пользу маэстро. Пьеса Хайнера Мюллера — это какой-то праязык, состоящий из простейших фраз и оборотов, сконструированная лингвистическая архаика, которую просто руки чешутся разъять на части васильевским способом. Превращение современной молодой женщины в варварку, а из нее в тот самый человеческий материал, который еще не оформлен личностно, но уже наделен душой — вот смысл и итог спектакля Васильева. Это превращение происходит не в возвышенном мандельштамовском смысле («Останься пеной, Афродита,/ И, слово, в музыку вернись...»), а в архаически-страшном. Слово вернулось не в музыку, а в крик (Валери Древиль вкладывает в каждое слово столько энергии, что эмоция передает смысл). Прекрасное женское тело превратилось в плоть. И именно это кричащее плотское начало оказалось «с первоосновой жизни слито».
10. Кислород (Иван Вырыпаев)
Действие главных сочинений Вырыпаева разворачивается на каких-то космических просторах, где без руля и ветрил летают невидимые ангелы и демоны. Вырыпаев выясняет отношения не с современностью, он выясняет отношения с Творцом. Ставит ребром проклятые вопросы бытия, а потом сам же дает на них ответы, рождающие новые вопросы. Для современной литературы такие высказывания о вере и о нравственности — тот самый шаг, который, как правило, отделяет литературу от паралитературы. И от падения в пропасть пафосной графомании Вырыпаева спасает лишь одно — абсолютно неожиданная интонация. Он сумел нащупать некие общие точки между изъеденным рефлексией сознанием современного интеллектуала и сознанием психоделическим, изломанным, бросающим вызов разумным основам цивилизации. Его «Кислород» — это исповедальная манера Гришковца, сдобренная терпким привкусом молодежной культуры и бунтарским пафосом новой европейской драмы. Вырыпаев пытается найти веру в неверии, мораль — в безнравственности, любовь — в отсутствии любви. Ищет черную кошку в темной комнате при условии, что ее там нет. И вот что удивительно — иногда все-таки находит.
|